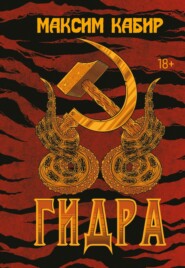По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Призраки (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Старуху их. Жива еще, поди. Имечко-то какое, а? Зо-луш-ка. Сказка есть такая, я тебе ее в детстве читала.
– А давно они тут живут?
– Да всегда жили.
– За сортировочной станцией?
– Э, нет. Сортировочную в пятьдесят втором построили. А раньше там лес начинался. Густой лес, ягодный. Они в лесу жили. Северин Жук с сестрой. Родители Золушки.
– Ого, – Настя придвинулась к матери. Когда мама в последний раз говорила так внятно? – С родной сестрой?
Тусклые глаза Зинаиды Григорьевны заблестели.
– С близняшкой, во как. И в грехе страшном Золушку зачали. Северин лихой человек был, он на вечерки приходил и ссорился с соседями нарочно, а кто с ним дрался, тот исчезал. И сам он исчез. Немцы напали, Северина пришли в армию забирать – глядят, нет его. Яма под хибарой выкопана, бездонная. Поаукали и плюнули.
– Я их мальчика учу, – сказала Настя, – он записку оставил. Мол, мать его покалечить хочет. Шутит, наверное.
– Жуки не шутят, – заявила старушка. – Стало быть, покалечит, непременно покалечит. Они же плодятся как зайцы, а жучат своих куда девают? То-то же.
Старуха вытерла салфеткой беззубый рот.
– Где Филипп? – спросила она.
В спальне Теплишина разделась догола и достала из пакета, из двухлитровой банки, упитанную серую жабу. Пупырчатое тело набухало и съеживалось, холодное, скользкое. Возникла неуместная мысль, что в христианстве жаба фигурирует как одна из персонификаций дьявола. Дракон, зверь и лжепророк выблевали трех духов, подобных трем жабам…
Существо квакнуло недовольно. Настя провела осклизлым комком по животу, по затвердевшим соскам, между грудями. Губы шептали неразборчивые слова, быстрее и быстрее, пот капал с ресниц. Пальцы сжались капканом, хрустнули косточки, глазки жабы вылезли из орбит, выплеснулась кровь и воняющие тиной внутренности. Жижа обрызгала Настю, а потом к крови, кишкам и поту добавились ее слезы.
В небе не было ни облачка, и птицы щебетали, порхая над малинником. Струилась мелкая речушка, но спуститься к воде мешала осока, пищащий комарами камыш и мусор. Замшелые фермы пестрели руганью и номерами телефонов легкодоступных дам. Под ними покрышки и фанера образовали дамбу.
Май выдался знойным. Часы показывали восемнадцать ноль-ноль, но жара не спадала. Теплый ветер ласкал лодыжки, теребил подол платья. Шуршала щебенка. Сумочка норовила выпасть из взопревшей ладони. Настя миновала мост, границу, отделяющую город от прилежащих ничейных территорий. Бурьян, укутавший рельсы, вынудил сойти с путей на обочину. Пять минут ходьбы – и она застыла, ошеломленная пейзажем.
Перед ней простирался могильник, где трупы не хоронили, а бросали под палящим солнцем, под проливными дождями и колким снегом. Мертвецами были отслужившие свое, списанные поезда.
Ржавые, осыпавшиеся деталями, разобранные до платформ. Ветер гулял в остовах кабин, в бледно-зеленых товарняках, в скособоченных, зияющих прорехами вагонах. Всюду топорщились прутья, железки, доски.
Из цементной трубы у подножия холма хлестала, пенясь, вода. Промышленные ручейки, рыжие, как скелеты поездов, змеились по жутковатому пустырю. Гнетущую тишину нарушала воронья перебранка. Птицы оккупировали стрелу подъемного крана, гнездились на крыше заколоченной будки у недействующего переезда.
Унылая картина вгоняла в ступор.
Здесь живет Митя? Уж лучше в лесу…
Настя окинула пристальным взором бывшую сортировочную станцию и заприметила фигуру у громоздкого ковша. Мужчина в камуфляжных штанах и вылинявшей рубашке подбирал дохлых ворон и складировал в ковш.
– Молодой человек! – Настя сошла гравийной тропкой к железнодорожному кладбищу.
Осколки пронзали подошвы сандалий. Запах тухлой рыбы въедался в поры.
Мужчина был лыс и бородат, асимметричен, как портреты Пикассо. Мутные глаза безразлично мазнули по гостье.
Тук! – полетела в ковш мертвая птица.
– Добрый вечер. Я ищу маму Матвея Жука.
Вяло шевельнулась кустистая бровь.
– Я учительница Мити.
Лысый поднял к лицу правую руку, и Насте стоило серьезных усилий не отпрянуть. Вместо кисти у мужчины был крюк, похожий своей спиральной формой на нагревающий элемент советских кипятильников. Такой же крюк заменял левую кисть.
– Я Митин дядя, – сказал инвалид. Слова вязли в спутанной бороде. – Идите за мной.
Настя выдавила улыбку. Как последнюю запятую зубной пасты из согнутого в три погибели тюбика.
И побрела за мужчиной параллельно локомотивным путям. Гудели высоковольтные столбы вдали. Вороны вспархивали в небо черным фейерверком.
С нарастающей тревогой Настя озиралась на руины депо, перевернутые и обугленные составы, на тонущие в лужах вагонные тележки. Клетка товарняка раскололась. С перил и лесенки шелушащегося тепловоза свисал ил.
– Вы Коля? – догадалась она. – Вы учились у меня в девяностых.
– Ага, – равнодушно сказал инвалид.
«Господи, – подумала Теплишина, – этот парень загрыз морскую свинку».
– Что с вашими руками? – осмелилась спросить она.
– Несчастный случай.
Кирпичная постройка с вентиляционной трубой, вероятно, была надземной частью погреба. Двери украшал причудливый рисунок углем: некто с телом лягушки и неотделимой от туловища башкой. Лапы уродца венчало что-то вроде звезд или медуз. Звездой с пятью лучами был его кричащий рот. При всей примитивности рисунка Настю передернуло от отвращения, и грудь под платьем засвербела.
Коля словно бы поклонился намалеванному существу.
Теплишина снова помянула имя Господа. Она увидела забор и дом под сенью яблони. Сарай и курятник. Мигающий лампочкой генератор. Обычный сельский дворик, если бы не марсианский кошмар вокруг. И не плацкартный вагон во дворе. Вагон был целым и обжитым, с сиреневыми занавесками на оконцах.
Около него на деревянной колоде две женщины лущили грецкие орехи. Худощавые, сутулые, с мышиными мордочками. Та, что помладше, была беременна. Пятый-шестой месяц.
– Галя, – окликнул инвалид, – к тебе учительница.
Женщина лет тридцати пяти привстала, морщась. В спортивных штанах и футболке с фотографией певиц из «Спайс герлз». Приблизилась, и Теплишина рассмотрела задубевшие шрамы на смуглых костлявых предплечьях.
Настя представилась.
– Вы по поводу моего балбеса? Что он натворил?
– Я просто хотела с вами познакомиться.
– Ну что ж, – сказала Галя, – пройдем в дом.
Настя приготовилась узреть опутанное паутиной логово, под стать обитателям свалки, но очутилась на вполне типичной деревенской кухоньке с цветочным орнаментом обоев, низким потолком и печью. Вешалка у порога, за ней плита, газовый баллон, потрескавшийся шкафчик. В центре – стол, на клеенке – солонка и перечница. Под столом – шеренга банок.
– А давно они тут живут?
– Да всегда жили.
– За сортировочной станцией?
– Э, нет. Сортировочную в пятьдесят втором построили. А раньше там лес начинался. Густой лес, ягодный. Они в лесу жили. Северин Жук с сестрой. Родители Золушки.
– Ого, – Настя придвинулась к матери. Когда мама в последний раз говорила так внятно? – С родной сестрой?
Тусклые глаза Зинаиды Григорьевны заблестели.
– С близняшкой, во как. И в грехе страшном Золушку зачали. Северин лихой человек был, он на вечерки приходил и ссорился с соседями нарочно, а кто с ним дрался, тот исчезал. И сам он исчез. Немцы напали, Северина пришли в армию забирать – глядят, нет его. Яма под хибарой выкопана, бездонная. Поаукали и плюнули.
– Я их мальчика учу, – сказала Настя, – он записку оставил. Мол, мать его покалечить хочет. Шутит, наверное.
– Жуки не шутят, – заявила старушка. – Стало быть, покалечит, непременно покалечит. Они же плодятся как зайцы, а жучат своих куда девают? То-то же.
Старуха вытерла салфеткой беззубый рот.
– Где Филипп? – спросила она.
В спальне Теплишина разделась догола и достала из пакета, из двухлитровой банки, упитанную серую жабу. Пупырчатое тело набухало и съеживалось, холодное, скользкое. Возникла неуместная мысль, что в христианстве жаба фигурирует как одна из персонификаций дьявола. Дракон, зверь и лжепророк выблевали трех духов, подобных трем жабам…
Существо квакнуло недовольно. Настя провела осклизлым комком по животу, по затвердевшим соскам, между грудями. Губы шептали неразборчивые слова, быстрее и быстрее, пот капал с ресниц. Пальцы сжались капканом, хрустнули косточки, глазки жабы вылезли из орбит, выплеснулась кровь и воняющие тиной внутренности. Жижа обрызгала Настю, а потом к крови, кишкам и поту добавились ее слезы.
В небе не было ни облачка, и птицы щебетали, порхая над малинником. Струилась мелкая речушка, но спуститься к воде мешала осока, пищащий комарами камыш и мусор. Замшелые фермы пестрели руганью и номерами телефонов легкодоступных дам. Под ними покрышки и фанера образовали дамбу.
Май выдался знойным. Часы показывали восемнадцать ноль-ноль, но жара не спадала. Теплый ветер ласкал лодыжки, теребил подол платья. Шуршала щебенка. Сумочка норовила выпасть из взопревшей ладони. Настя миновала мост, границу, отделяющую город от прилежащих ничейных территорий. Бурьян, укутавший рельсы, вынудил сойти с путей на обочину. Пять минут ходьбы – и она застыла, ошеломленная пейзажем.
Перед ней простирался могильник, где трупы не хоронили, а бросали под палящим солнцем, под проливными дождями и колким снегом. Мертвецами были отслужившие свое, списанные поезда.
Ржавые, осыпавшиеся деталями, разобранные до платформ. Ветер гулял в остовах кабин, в бледно-зеленых товарняках, в скособоченных, зияющих прорехами вагонах. Всюду топорщились прутья, железки, доски.
Из цементной трубы у подножия холма хлестала, пенясь, вода. Промышленные ручейки, рыжие, как скелеты поездов, змеились по жутковатому пустырю. Гнетущую тишину нарушала воронья перебранка. Птицы оккупировали стрелу подъемного крана, гнездились на крыше заколоченной будки у недействующего переезда.
Унылая картина вгоняла в ступор.
Здесь живет Митя? Уж лучше в лесу…
Настя окинула пристальным взором бывшую сортировочную станцию и заприметила фигуру у громоздкого ковша. Мужчина в камуфляжных штанах и вылинявшей рубашке подбирал дохлых ворон и складировал в ковш.
– Молодой человек! – Настя сошла гравийной тропкой к железнодорожному кладбищу.
Осколки пронзали подошвы сандалий. Запах тухлой рыбы въедался в поры.
Мужчина был лыс и бородат, асимметричен, как портреты Пикассо. Мутные глаза безразлично мазнули по гостье.
Тук! – полетела в ковш мертвая птица.
– Добрый вечер. Я ищу маму Матвея Жука.
Вяло шевельнулась кустистая бровь.
– Я учительница Мити.
Лысый поднял к лицу правую руку, и Насте стоило серьезных усилий не отпрянуть. Вместо кисти у мужчины был крюк, похожий своей спиральной формой на нагревающий элемент советских кипятильников. Такой же крюк заменял левую кисть.
– Я Митин дядя, – сказал инвалид. Слова вязли в спутанной бороде. – Идите за мной.
Настя выдавила улыбку. Как последнюю запятую зубной пасты из согнутого в три погибели тюбика.
И побрела за мужчиной параллельно локомотивным путям. Гудели высоковольтные столбы вдали. Вороны вспархивали в небо черным фейерверком.
С нарастающей тревогой Настя озиралась на руины депо, перевернутые и обугленные составы, на тонущие в лужах вагонные тележки. Клетка товарняка раскололась. С перил и лесенки шелушащегося тепловоза свисал ил.
– Вы Коля? – догадалась она. – Вы учились у меня в девяностых.
– Ага, – равнодушно сказал инвалид.
«Господи, – подумала Теплишина, – этот парень загрыз морскую свинку».
– Что с вашими руками? – осмелилась спросить она.
– Несчастный случай.
Кирпичная постройка с вентиляционной трубой, вероятно, была надземной частью погреба. Двери украшал причудливый рисунок углем: некто с телом лягушки и неотделимой от туловища башкой. Лапы уродца венчало что-то вроде звезд или медуз. Звездой с пятью лучами был его кричащий рот. При всей примитивности рисунка Настю передернуло от отвращения, и грудь под платьем засвербела.
Коля словно бы поклонился намалеванному существу.
Теплишина снова помянула имя Господа. Она увидела забор и дом под сенью яблони. Сарай и курятник. Мигающий лампочкой генератор. Обычный сельский дворик, если бы не марсианский кошмар вокруг. И не плацкартный вагон во дворе. Вагон был целым и обжитым, с сиреневыми занавесками на оконцах.
Около него на деревянной колоде две женщины лущили грецкие орехи. Худощавые, сутулые, с мышиными мордочками. Та, что помладше, была беременна. Пятый-шестой месяц.
– Галя, – окликнул инвалид, – к тебе учительница.
Женщина лет тридцати пяти привстала, морщась. В спортивных штанах и футболке с фотографией певиц из «Спайс герлз». Приблизилась, и Теплишина рассмотрела задубевшие шрамы на смуглых костлявых предплечьях.
Настя представилась.
– Вы по поводу моего балбеса? Что он натворил?
– Я просто хотела с вами познакомиться.
– Ну что ж, – сказала Галя, – пройдем в дом.
Настя приготовилась узреть опутанное паутиной логово, под стать обитателям свалки, но очутилась на вполне типичной деревенской кухоньке с цветочным орнаментом обоев, низким потолком и печью. Вешалка у порога, за ней плита, газовый баллон, потрескавшийся шкафчик. В центре – стол, на клеенке – солонка и перечница. Под столом – шеренга банок.