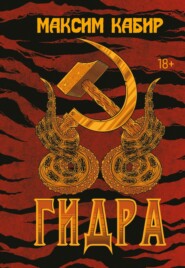По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Голоса из подвала
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Только мы, мы, мы…
– А мы тут были всегда…
Удивительное дело, но голоса подействовали на Алешу успокаивающе. Пусть он и не мог понять, кто это говорит, но, по крайней мере, в словах не таилось никакой угрозы. Эхо голосов накатывало плавно, как волны на берег, гипнотизировало, убаюкивало. Уставшего и перенервничавшего Алешу потянуло ко сну.
– Мне холодно, – пожаловался он в темноту.
– Бывает и хуже, мальчик…
– Хуже, хуже, сильно хуже…
– Мы расскажем тебе историю… Много теплых-претеплых историй…
– Много, много, много…
– А ты послушай…
– Слушай, слушай, слушай…
И он начал слушать.
Снеговик
Стоя на коленях, восьмилетний Гришка Сорокин сосредоточенно работал руками. Щеки горели, штанишки намокли, пальцы превратились в сосули и почти не сгибались.
Зато труды его были близки к завершению.
Фигура получалась не очень большая – не то что снеговик на другом краю площадки. Гришка отвернулся, чтобы не видеть толстого урода, но прекрасно слышал, как носятся с радостным визгом вокруг белого великана Ася, Миша, Максим и прочая мелкота. Ну и здоровенный же он, этот снеговик, раза в два выше любого из детей!
Но им-то лепить родители помогали. Мишкин папа все шутил с мамой Аси, а та звонко смеялась и швыряла в соседа снежки. Отец Максима сбегал через дорогу в магазин и вернулся с маленьким пластмассовым ведерком, которое мужчины водрузили снеговику на голову вместо шапки, «чтобы не мерз».
Всем двором лепили, короче. А Гришка работал над своей снежной фигурой в одиночку, потому что был «без-ац-ов-щ-ина». И вообще его не любили. Хуже того – жалели.
На площадку опускался вечер. Смех и визг постепенно стихали – взрослые растаскивали малышей по домам. Гришка шлепнул последнюю горсть снега, разровнял и замер, оценивая результаты трудов. Стянув зубами отсыревшие варежки, подышал на замерзшие ладони.
Вылепленную им скульптуру накрыла тень.
– А се ето ти деишь? – Сбоку нарисовалась девчонка в дутой розовой куртке. Чуток повыше Гришки, но только потому, что сам он на коленках стоял. Голубоглазая, светлые волосики выбились из-под вязаной шапки.
Любопытная какая.
– Сардельку леплю, – соврал он и подвинулся, загораживая скульптуру. Почему-то не хотелось, чтобы девчонка разглядела ее в деталях.
– Ну и зопа.
– Сама ты жопа, – обозлился Гришка.
Потом припомнил еще одно гадкое слово и добавил:
– Всратая.
– А у тя сопья падь носем!
– А у тебя…
Не найдясь, чем ответить на дерзость, Гришка решил просто толкнуть нахалку. Чтобы грохнулась «зопой» наземь и заревела, как обычно делает мелюзга в таких случаях. Но пока поднимался с колен, пока разворачивался – глядь, а розовую куртку уж тянет за рукав пожилая тетка.
– Ужинать пора, Мила! Время позднее, пошли – кушать, мультики и спать… О господи! – Баба Лида наконец увидела, ЧТО слепил Гришка в своем углу.
– И не стыдно тебе? – это она уже к нему обратилась.
Вообще бабушка у Милы была добрая. Жила в соседнем подъезде и иногда, встретив Гришку во дворе или рядом с подъездом, угощала леденцами. Но сейчас голос бабы Лиды стал колючим, как замерзшая снежинка.
– Не стыдно, – буркнул Гришка в ответ, утерев заиндевелые сопли.
Баба Лида перевела взгляд с изваяния на скульптора и тяжело вздохнула. Колючесть из ее голоса куда-то пропала, растаяла:
– Замерз небось, Григорий…
– Замез-нибось-глиголий! – пискнула Мила.
Бабушка строго шикнула на внучку:
– Тише, егоза!.. Что ж ты тут кукуешь, Гриша? Мамка в загуле опять, да?.. Может, с нами? Чайку горячего попьем…
Поймав сочувственный взгляд, Гришка аж затрясся всем телом. Глаза защипало, как на той неделе, когда на школьном задворье толстый пятиклассник поймал его и стукнул по носу, а потом маленькая, но очень громкая и болтливая учителка кудахтала и платок совала. А Гришка разревелся как мелкий. Не от боли – от жгучей обиды. От которой глаза горели, вот как сейчас.
– Ты… ты… Моя мама самая красивая, а ты… – Он сжал кулаки и плюнул старушке под ноги. – Да пошла ты!
Лицо бабы Лиды скривилось, отчего морщин на нем стало еще больше. Уголки губ потекли вниз, на щеках под кожей проступили косточки. Будто бумажный лист смяли в комок, а потом расправили. Голос стал совсем ледяным:
– С матерью своей, шалавой, в таком тоне разговаривай!
Она резко развернулась и прошествовала к дверям в подъезд, утягивая за собой слабо упирающуюся внучку. Попутно выговаривала то ли ей, то ли самой себе: «Сколько раз повторять – не играй с Гришкой! Дурной, совсем дурной мальчишка стал, скверный!.. И мать его, проститу…»
Грохнула дверь. С козырька подъезда просыпалась снежная крошка.
– Выдра старая! – крикнул Гришка, запоздало припомнив, как мать называла соседку, когда ругалась с ней из-за чего-нибудь.
Крикнул – и тут же испуганно втянул голову в плечи. А ну как кто из взрослых услышал?.. Папа Максима, например. Ух, тогда Гришке мало не покажется! Он боязливо оглянулся по сторонам, готовый в любой момент дать деру, хотя и понимал, что в случае чего – далеко не убежишь.
Успокоился, увидев, что на площадке больше никого не осталось. Пара припорошенных снегом скамеек, горка-башенка и – снеговик. Такой же громадный, как и прежде.
Падали редкие снежинки. Откуда-то издалека – может, с пятого или шестого этажа, а может, и с соседней улицы – доносилась музыка из новогодней рекламы «Кока-колы», про праздник, который приходит.
Гришка нагнулся, стряхнул с коленей подтаявшие белые хлопья. Вернулся по хрустящему снегу к своей «сардельке». Не заметив, как в быстро сгущающихся сумерках медленно повернулась ему вслед голова снежного гиганта.
Слепленная копия получилась неточной, но все-таки напоминала ту «штукенцию», которой дядя Ашот, достав из штанов, тыкал сегодня Гришкиной мамке в лицо. Взрослые пили водку. Дядя Ашот разделся по пояс, у него были синие от татуировок плечи. Когда дядя Ашот начал гоняться по квартире за мамкой, его волосатый живот колыхался вверх-вниз, вверх-вниз, а мамка громко смеялась. Не так звонко и весело, как Асина мама, – мамкин смех был хриплым, грубым. Казалось, об него можно поцарапаться. Кашляющий же, сиплый хохот дяди Ашота напоминал звуки затрещин – уж чего-чего, а этого добра у мамкиного хахаля для Гришки всегда хватало.
– А мы тут были всегда…
Удивительное дело, но голоса подействовали на Алешу успокаивающе. Пусть он и не мог понять, кто это говорит, но, по крайней мере, в словах не таилось никакой угрозы. Эхо голосов накатывало плавно, как волны на берег, гипнотизировало, убаюкивало. Уставшего и перенервничавшего Алешу потянуло ко сну.
– Мне холодно, – пожаловался он в темноту.
– Бывает и хуже, мальчик…
– Хуже, хуже, сильно хуже…
– Мы расскажем тебе историю… Много теплых-претеплых историй…
– Много, много, много…
– А ты послушай…
– Слушай, слушай, слушай…
И он начал слушать.
Снеговик
Стоя на коленях, восьмилетний Гришка Сорокин сосредоточенно работал руками. Щеки горели, штанишки намокли, пальцы превратились в сосули и почти не сгибались.
Зато труды его были близки к завершению.
Фигура получалась не очень большая – не то что снеговик на другом краю площадки. Гришка отвернулся, чтобы не видеть толстого урода, но прекрасно слышал, как носятся с радостным визгом вокруг белого великана Ася, Миша, Максим и прочая мелкота. Ну и здоровенный же он, этот снеговик, раза в два выше любого из детей!
Но им-то лепить родители помогали. Мишкин папа все шутил с мамой Аси, а та звонко смеялась и швыряла в соседа снежки. Отец Максима сбегал через дорогу в магазин и вернулся с маленьким пластмассовым ведерком, которое мужчины водрузили снеговику на голову вместо шапки, «чтобы не мерз».
Всем двором лепили, короче. А Гришка работал над своей снежной фигурой в одиночку, потому что был «без-ац-ов-щ-ина». И вообще его не любили. Хуже того – жалели.
На площадку опускался вечер. Смех и визг постепенно стихали – взрослые растаскивали малышей по домам. Гришка шлепнул последнюю горсть снега, разровнял и замер, оценивая результаты трудов. Стянув зубами отсыревшие варежки, подышал на замерзшие ладони.
Вылепленную им скульптуру накрыла тень.
– А се ето ти деишь? – Сбоку нарисовалась девчонка в дутой розовой куртке. Чуток повыше Гришки, но только потому, что сам он на коленках стоял. Голубоглазая, светлые волосики выбились из-под вязаной шапки.
Любопытная какая.
– Сардельку леплю, – соврал он и подвинулся, загораживая скульптуру. Почему-то не хотелось, чтобы девчонка разглядела ее в деталях.
– Ну и зопа.
– Сама ты жопа, – обозлился Гришка.
Потом припомнил еще одно гадкое слово и добавил:
– Всратая.
– А у тя сопья падь носем!
– А у тебя…
Не найдясь, чем ответить на дерзость, Гришка решил просто толкнуть нахалку. Чтобы грохнулась «зопой» наземь и заревела, как обычно делает мелюзга в таких случаях. Но пока поднимался с колен, пока разворачивался – глядь, а розовую куртку уж тянет за рукав пожилая тетка.
– Ужинать пора, Мила! Время позднее, пошли – кушать, мультики и спать… О господи! – Баба Лида наконец увидела, ЧТО слепил Гришка в своем углу.
– И не стыдно тебе? – это она уже к нему обратилась.
Вообще бабушка у Милы была добрая. Жила в соседнем подъезде и иногда, встретив Гришку во дворе или рядом с подъездом, угощала леденцами. Но сейчас голос бабы Лиды стал колючим, как замерзшая снежинка.
– Не стыдно, – буркнул Гришка в ответ, утерев заиндевелые сопли.
Баба Лида перевела взгляд с изваяния на скульптора и тяжело вздохнула. Колючесть из ее голоса куда-то пропала, растаяла:
– Замерз небось, Григорий…
– Замез-нибось-глиголий! – пискнула Мила.
Бабушка строго шикнула на внучку:
– Тише, егоза!.. Что ж ты тут кукуешь, Гриша? Мамка в загуле опять, да?.. Может, с нами? Чайку горячего попьем…
Поймав сочувственный взгляд, Гришка аж затрясся всем телом. Глаза защипало, как на той неделе, когда на школьном задворье толстый пятиклассник поймал его и стукнул по носу, а потом маленькая, но очень громкая и болтливая учителка кудахтала и платок совала. А Гришка разревелся как мелкий. Не от боли – от жгучей обиды. От которой глаза горели, вот как сейчас.
– Ты… ты… Моя мама самая красивая, а ты… – Он сжал кулаки и плюнул старушке под ноги. – Да пошла ты!
Лицо бабы Лиды скривилось, отчего морщин на нем стало еще больше. Уголки губ потекли вниз, на щеках под кожей проступили косточки. Будто бумажный лист смяли в комок, а потом расправили. Голос стал совсем ледяным:
– С матерью своей, шалавой, в таком тоне разговаривай!
Она резко развернулась и прошествовала к дверям в подъезд, утягивая за собой слабо упирающуюся внучку. Попутно выговаривала то ли ей, то ли самой себе: «Сколько раз повторять – не играй с Гришкой! Дурной, совсем дурной мальчишка стал, скверный!.. И мать его, проститу…»
Грохнула дверь. С козырька подъезда просыпалась снежная крошка.
– Выдра старая! – крикнул Гришка, запоздало припомнив, как мать называла соседку, когда ругалась с ней из-за чего-нибудь.
Крикнул – и тут же испуганно втянул голову в плечи. А ну как кто из взрослых услышал?.. Папа Максима, например. Ух, тогда Гришке мало не покажется! Он боязливо оглянулся по сторонам, готовый в любой момент дать деру, хотя и понимал, что в случае чего – далеко не убежишь.
Успокоился, увидев, что на площадке больше никого не осталось. Пара припорошенных снегом скамеек, горка-башенка и – снеговик. Такой же громадный, как и прежде.
Падали редкие снежинки. Откуда-то издалека – может, с пятого или шестого этажа, а может, и с соседней улицы – доносилась музыка из новогодней рекламы «Кока-колы», про праздник, который приходит.
Гришка нагнулся, стряхнул с коленей подтаявшие белые хлопья. Вернулся по хрустящему снегу к своей «сардельке». Не заметив, как в быстро сгущающихся сумерках медленно повернулась ему вслед голова снежного гиганта.
Слепленная копия получилась неточной, но все-таки напоминала ту «штукенцию», которой дядя Ашот, достав из штанов, тыкал сегодня Гришкиной мамке в лицо. Взрослые пили водку. Дядя Ашот разделся по пояс, у него были синие от татуировок плечи. Когда дядя Ашот начал гоняться по квартире за мамкой, его волосатый живот колыхался вверх-вниз, вверх-вниз, а мамка громко смеялась. Не так звонко и весело, как Асина мама, – мамкин смех был хриплым, грубым. Казалось, об него можно поцарапаться. Кашляющий же, сиплый хохот дяди Ашота напоминал звуки затрещин – уж чего-чего, а этого добра у мамкиного хахаля для Гришки всегда хватало.