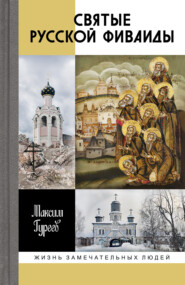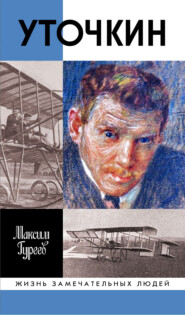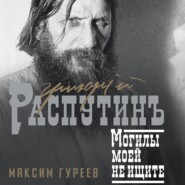По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иосиф Бродский. Жить между двумя островами
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Снимал фуражку и протирал ладонью блестящий от пота лоб.
Иосиф Александрович любил повторять: «Отец, например, не был ни членом партии, всего этого “добра” он не терпел, просто не выносил… и еще он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался, всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать генетический момент, кровный. У Баратынского есть совершенно феноменальное стихотворение… “Запустение”, где он говорит об отце:
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной тени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу».
В родительской комнате над столом уже включена люстра, и потому резкие тени от высоких спинок стульев перегораживают пространство зубчатым частоколом, напоминающим сооружения на площади Сан-Марко с полотен Каналетто.
Интродукция перед Пятым Эписодием
1 декабря 1951 года в поточную аудиторию филологического факультета Ленинградского государственного университета имени Андрея Жданова вошли трое молодых людей.
На них были длинные, до колен, рубахи, перепоясанные бечевкой, и посконные брюки, а в руках они держали лукошки. Напевая «Лучинушку», молодые люди заняли места ровно напротив кафедры, достали гусиные перья, свитки бумаги, на которых предполагали записывать лекцию по русской литературе, а также деревянные плошки, в которые, ухарски похлопывая друг друга по плечу, они покрошили черный хлеб и стали разливать принесенный с собой квас.
Достали деревянные ложки:
Лучина моя, лучинушка
берёзовая-о.
Что же ты, моя лучинушка,
не ясно горишь.
Что же ты, моя лучинушка,
не ясно горишь,
Не ясно горишь, не ясно
горишь…
Нарочито серьезное и достаточно громкое исполнение песни (в «поточку» стали заглядывать из коридора) сопровождалось театральными телодвижениями и оперными пассами, отсылающими слушателя и зрителя к образу великого Федора Ивановича Шаляпина, который спел «Лучинушку» в 1907 году.
– Да это же троцкистско-зиновьевская провокация! – раздалось откуда-то с «камчатки».
Далее об этом событии читаем в газете «Комсомольская правда» от 11 декабря 1952 года: «Что это? Когда и где происходило? Не далее, как первого декабря этого года на филологическом факультете Ленинградского университета во время чтения лекции по русскому языку (по другой версии это был курс по русской литературе XIX века). Разыграли эту дикую сцену студенты второго курса Михайлов, Кондратов и Красильников.
Однокурсники, естественно, тут же выпроводили их из аудитории. Общественность университета возмутила безобразная выходка юродствующих “оригиналов”.
Возмущались и в комитете комсомола. Возмущались и смущались. Дело в том, что “герои” описанного выше происшествия – комсомольцы, давно уже снискавшие сомнительную славу своими тихими успехами и не в меру громким поведением.
Еще в прошлом году на филологическом факультете стали поговаривать, что студенты Кондратов, Михайлов, Красильников и Сокольников противопоставляют себя студенческому коллективу, держатся вызывающе и надменно. В то время как их товарищи упорно учатся, накапливая знания, эти невежды, вызубрив несколько хлестких цитат, жонглируют ими кстати и некстати, выдавая себя за подлинных ценителей литературы.
При этом их оценка литературных явлений носит определенную направленность: глумясь над священными для нас именами Пушкина и Гоголя, они всячески расхваливают гнилую, растленную поэзию символистов и прочих “истов”. С чьей-то легкой руки шумливых недоучек стали называть “неофутуристами”. Хлесткое словечко, видимо, пришлось им по вкусу. Во всяком случае, они против этого названия не протестовали и старались подчеркнуть свою исключительность. Несколько раз приходилось комсомольской группе обсуждать поведение Красильникова и его дружков. Но при этом речь шла только о внешней стороне дела – нарушениях дисциплины и срыве установленного распорядка. Руководители комсомольской организации университета, старшие наставники – преподаватели и профессора не помогли комсомольцам дать политическую оценку “шалостям” так называемых “неофутуристов”. А ведь от этих “шалостей” за версту разит душком мелкобуржуазной разнузданности. И надо было раскрыть, какие враждебные нашим взглядам на жизнь идейки маскируют они шутовством. Но в том-то и беда, что в комсомольской организации университета, как, впрочем, и в некоторых других вузах Ленинграда, не привыкли к любым явлениям студенческой жизни подходить со строго принципиальных и четких идейных позиций. За формой, за множеством “массовых мероприятий” вожаки студенческой молодежи упускают главное – заботу об идейной чистоте, о политической закалке будущего специалиста. А такое упущение неизменно дает себя знать».
После короткого и как в ту пору водилось, яростного разбирательства «юродствующие» студенты – Михаил Красильников (1933–1996) и Юрий Михайлов (1933–1990) были отчислены из университета без права восстановления в течение двух лет. Эдуарда Кондратова (1933–2010) – третьего из любителей испить кваса в университетской аудитории и пропеть «Лучинушку» – пощадили и оставили на курсе.
После смерти Сталина, когда, как мы помним, юного Иосифа Бродского ставили на колени в школе в Соляном переулке, «новых неофутуристов» все-таки восстановили на филфаке, и студенческая жизнь «оригиналов» продолжилась. Более того, к компании Михаила Красильникова присоединились новые яркие и талантливые персонажи: Владимир Уфлянд (1937–2007), Сергей Кулле (1936–1984), Михаил Еремин (1936 г.р.), Леонид Виноградов (1936–2004), Александр Кондратов (1937–1993), Лев Лифшиц (Лосев) (1937–2009).
Владимир Иосифович Уфлянд вспоминал: «24 апреля 1956 года мы с нашим замечательным другом Мишей Красильниковым открывали на Неве перед филологическим факультетом купальный сезон. Плыли по Неве льдины, с Ладожского озера, и мы между льдин ныряли. Кто-то стоял наготове с маленькой водки, чтобы нас быстро согреть, если останемся живы».
О филологах-экспериментаторах тогда в Ленинграде говорили многие.
Это и понятно, ведь они прилагали достаточно усилий, чтобы обратить на себя внимание.
Например, молодые люди могли запросто прилечь среди обескураженных прохожих на заснеженный или высушенный летним зноем Невский, чтобы таким образом лучше всмотреться в звездное небо, читая при этом стихи.
Красильников, как всегда, начинал:
Гроза настигла одиноких,
Тоской потасканных прохожих.
На мостовой царили ноги
В непромокаемых калошах.
Они тела несли на ужин,
От ливня крышею накрытый.
А в это время даже лужи
Приобретали лазуриты.
Деревья долго сокрушались,
Что дождь забудет прекратиться.
Их неустанно украшали
Вдали горящие зарницы.
Печные трубы в лентах дыма
Изображали голос альта.
На них глядел неумолимо
Осмысленный зрачок асфальта.
Отвердевали мысли, вещась,
Глаза цветы срывали с веток.
И тротуар, плывущий в вечер,
Устал тонуть в потоке света.
Потом подхватывал Уфлянд:
Крестьянин
крепок костями.
Он принципиален и прост.
Мне хочется стать Крестьянином,
вступив,
если надо,
в колхоз.
Судьба у крестьянина древняя:
жать,
в землю зерно бросать,
да изредка
время от времени
Россию ходить спасать
от немцев, варяг или греков.
Ему помогает Мороз.