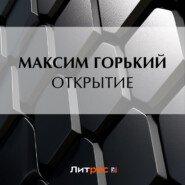По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хозяин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну и звонит, дьявол!
А Кувшинов сердито воскликнул:
– Чумовой он, что ли?
Но мне это не мешало: мне хотелось заставить их слушать мой рассказ и казалось, что они уже поддаются моим словам…
Вдруг хозяин, не шевелясь, выговорил медленно, тоненьким голосом и в нос:
– Ну, – будет, Грохало! Спасибо, брат! Очень все хорошо. Теперича, расставив звезды по своим местам, поди-ка ты покорми свинок, свинушечек моих…
Теперь об этом смешно вспоминать, но в тот час мне было невесело, и я не помню, как победил бешенство, охватившее меня.
Помню, что, когда я вбежал в мастерскую, Шатунов и Артюшка схватили меня, вывели в сени и там отпаивали водой. Яшка Бубенчик убедительно говорил:
– Сто-о? Ага-а, не послусал меня?
А Цыган, нахмуренный и сердитый, ворчал, похлопывая меня по спине:
– Охота связываться… Ежели у него селезенка разыгралась, – ему сам архиерей нипочем…
Кормление свиней считалось обидным и тяжелым наказанием: йоркширы помещались в темном, тесном хлеве, и когда человек вносил к ним ведра корма, они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами, редко кто выдерживал эти тяжелые любезности, не падая в грязь хлева.
Войдя в хлев, нужно было тотчас же прислониться спиною к стене его, разогнать зверей пинками и, быстро вылив пойло в корыто, скорее уходить, потому что рассерженные ударами свиньи кусались. Но было гораздо хуже, когда Егорка, отворив дверь в мастерскую, возглашал загробным голосом:
– Эй, кацапы, гайда свиней загонять!
Это значило, что выпущенные на двор животные разыгрались и не хотят идти в хлев. Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих, и начиналась – к великому наслаждению хозяина – веселая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро уже задыхались со зла и усталости; упрямые свиньи, катаясь по двору, как бочки, то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел и, впадая в охотницкое возбуждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал:
А Кувшинов сердито воскликнул:
– Чумовой он, что ли?
Но мне это не мешало: мне хотелось заставить их слушать мой рассказ и казалось, что они уже поддаются моим словам…
Вдруг хозяин, не шевелясь, выговорил медленно, тоненьким голосом и в нос:
– Ну, – будет, Грохало! Спасибо, брат! Очень все хорошо. Теперича, расставив звезды по своим местам, поди-ка ты покорми свинок, свинушечек моих…
Теперь об этом смешно вспоминать, но в тот час мне было невесело, и я не помню, как победил бешенство, охватившее меня.
Помню, что, когда я вбежал в мастерскую, Шатунов и Артюшка схватили меня, вывели в сени и там отпаивали водой. Яшка Бубенчик убедительно говорил:
– Сто-о? Ага-а, не послусал меня?
А Цыган, нахмуренный и сердитый, ворчал, похлопывая меня по спине:
– Охота связываться… Ежели у него селезенка разыгралась, – ему сам архиерей нипочем…
Кормление свиней считалось обидным и тяжелым наказанием: йоркширы помещались в темном, тесном хлеве, и когда человек вносил к ним ведра корма, они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами, редко кто выдерживал эти тяжелые любезности, не падая в грязь хлева.
Войдя в хлев, нужно было тотчас же прислониться спиною к стене его, разогнать зверей пинками и, быстро вылив пойло в корыто, скорее уходить, потому что рассерженные ударами свиньи кусались. Но было гораздо хуже, когда Егорка, отворив дверь в мастерскую, возглашал загробным голосом:
– Эй, кацапы, гайда свиней загонять!
Это значило, что выпущенные на двор животные разыгрались и не хотят идти в хлев. Вздыхая и ругаясь, на двор выбегало человек пять рабочих, и начиналась – к великому наслаждению хозяина – веселая охота; сначала люди относились к этой дикой гоньбе с удовольствием, видя в ней развлечение, но скоро уже задыхались со зла и усталости; упрямые свиньи, катаясь по двору, как бочки, то и дело опрокидывали людей, а хозяин смотрел и, впадая в охотницкое возбуждение, подпрыгивал, топал ногами, свистел и визжал: