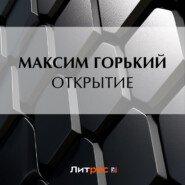По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Детство. В людях. Мои университеты
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Много ты знаешь! – желая обидеть ее, крикнул я. – Вон лавочница, Хлыстова сестра, совсем старая, а как путается с парнями-то!
Людмила воротилась ко мне, глубоко всаживая свой костыль в песок двора.
– Ты сам ничего не знаешь, – заговорила она торопливо, со слезами в голосе, и милые глаза ее красиво разгорелись. – Лавочница – распутная, а я – такая, что ли? Я еще маленькая, меня нельзя трогать и щипать, и все… ты бы вот прочитал роман «Камчадалка», часть вторая, да и говорил бы!
Она ушла, всхлипывая. Мне стало жаль ее – в словах ее звучала какая-то неведомая мне правда. Зачем щиплют ее товарищи мои? А еще говорят – влюблены…
На другой день, желая загладить вину свою перед Людмилой, я купил на семишник леденцов «ячменного сахара», любимого ею, как я уже знал.
– Хочешь?
Она насильно сердито сказала:
– Уйди, я с тобой не дружусь!
Но тотчас взяла леденцы, заметив мне:
– Хоть бы в бумажку завернул, – руки-то грязные какие.
– Я мыл, да уж не отмываются.
Она взяла мою руку своей, сухой и горячей, посмотрела.
– Как испортил…
– А у тебя пальцы истыканы…
– Это – иголкой, я шью много…
Через несколько минут она предложила мне, оглядываясь:
– Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и станем читать «Камчадалку» – хочешь?
Долго искали, куда спрятаться, везде было неудобно. Наконец решили, что лучше всего забраться в предбанник: там – темно, но можно сесть у окна – оно выходит в грязный угол между сараем и соседней бойней, люди редко заглядывают туда.
И вот она сидит, боком к окну, вытянув больную ногу по скамье, опустив здоровую на пол, сидит и, закрыв лицо растрепанной книжкой, взволнованно произносит множество непонятных и скучных слов. Но я – волнуюсь. Сидя на полу, я вижу, как серьезные глаза двумя голубыми огоньками двигаются по страницам книжки, иногда их овлажняет слеза, голос девочки дрожит, торопливо произнося незнакомые слова в непонятных соединениях. Однако я хватаю эти слова и, стараясь уложить их в стихи, перевертываю всячески, – это уж окончательно мешает мне понять, о чем рассказывает книга.
На коленях у меня дремлет собака, я зову ее – Ветер, потому что она мохнатая, длинная, быстро бегает и ворчит, как осенний ветер в трубе.
– Ты слушаешь? – спрашивает девочка.
Я молча киваю головой. Сумятица слов все более возбуждает меня, все беспокойнее мое желание расставить их иначе, как они стоят в песнях, где каждое слово живет и горит звездою в небе.
Когда стало темно, Людмила, опустив побелевшую руку с книгой, спросила:
– Хорошо ведь? Вот видишь…
С этого вечера мы часто сиживали в предбаннике. Людмила, к моему удовольствию, скоро отказалась читать «Камчадалку». Я не мог ответить ей, о чем идет речь в этой бесконечной книге, – бесконечной потому, что за второй частью, с которой мы начали чтение, явилась третья; и девочка говорила мне, что есть четвертая.
Особенно хорошо было нам в ненастные дни, если ненастье не падало на субботу, когда топили баню.
На дворе льет дождь, – никто не выйдет на двор, не заглянет к нам, в темный наш угол. Людмила очень боялась, что нас «застанут».
– Знаешь, что тогда подумают? – тихонько спрашивала она.
Я знал и тоже опасался, как бы не «застали». Мы просиживали целые часы, разговаривая о чем-то, иногда я рассказывал бабушкины сказки, Людмила же – о жизни казаков на реке Медведице.
– Ой, как там хорошо! – вздыхала она. – Здесь – что? Здесь только нищим жить…
Я решил, что, когда вырасту, непременно схожу посмотреть реку Медведицу.
Скоро мы перестали нуждаться в предбаннике: мать Людмилы нашла работу у скорняка и с утра уходила из дому, сестренка училась в школе, брат работал на заводе изразцов. В ненастные дни я приходил к девочке, помогая ей стряпать, убирать комнату и кухню, она смеялась:
– Мы с тобой живем, как муж с женой, только спим порознь. Мы даже лучше живем – мужья женам не помогают…
Если у меня были деньги, я покупал сластей, мы пили чай, потом охлаждали самовар холодной водой, чтобы крикливая мать Людмилы не догадалась, что его грели. Иногда к нам приходила бабушка, сидела, плетя кружева или вышивая, рассказывала чудесные сказки, а когда дед уходил в город, Людмила пробиралась к нам, и мы пировали беззаботно.
Бабушка говорила:
– Ой, хорошо мы живем! Свой грош – строй что хошь!
Она поощряла нашу дружбу.
– Мальчику с девочкой дружиться – это хорошее дело! Только баловать не надо…
И простейшими словами объясняла нам, что значит «баловать». Говорила она красиво, одухотворенно, и я хорошо понял, что не следует трогать цветы, пока они не распустились, а то не быть от них ни запаху, ни ягод.
«Баловать» не хотелось, но это не мешало мне и Людмиле говорить о том, о чем принято молчать. Говорили, конечно, по необходимости, ибо отношения полов в их грубой форме слишком часто и назойливо лезли в глаза, слишком обижали нас.
Отец Людмилы, красивый мужчина лет сорока, был кудряв, усат и как-то особенно победно шевелил густыми бровями. Он был странно молчалив, – я не помню ни одного слова, сказанного им. Лаская детей, он мычал, как немой, и даже жену бил молча.
Вечерами, по праздникам, одев голубую рубаху, плисовые шаровары и ярко начищенные сапоги, он выходил к воротам с большой гармоникой, закинутой на ремне за спину, и становился точно солдат в позиции «на караул». Тотчас же мимо наших ворот начиналось «гулянье»: уточками шли одна за другой девицы и бабы, поглядывая на Евсеенка прикрыто, из-под ресниц, и открыто, жадными глазами, а он стоит, оттопырив нижнюю губу, и тоже смотрит на всех выбирающим взглядом темных глаз. Было что-то неприятно-собачье в этой безмолвной беседе глазами, в медленном, обреченном движении женщин мимо мужчины, – казалось, что любая из них, если только мужчина повелительно мигнет ей, покорно свалится на сорный песок улицы, как убитая.
– Выпялился козел, бесстыжая харя! – ворчит мать Людмилы. Тонкая и высокая, с длинным, нечистым лицом, с коротко остриженными – после тифа – волосами, она была похожа на изработанную метлу.
Рядом с нею сидит Людмила и безуспешно старается отвлечь внимание ее от улицы, упрямо расспрашивает о чем-нибудь.
– Отстань, назола, урод несчастный! – бормочет мать, беспокойно мигая; ее узкие монгольские глаза странно светлы и неподвижны, – задели за что-то и навсегда остановились.
– Ты не сердись, мамочка, все равно уж, – говорит Людмила. – Ты погляди-ка, как рогожница разоделась!
– Я бы получше оделась, кабы вас троих не было, сожрали вы меня, слопали, – безжалостно и точно сквозь слезы отвечает мать, вцепившись глазами в большую, широкую вдову рогожника.
Она похожа на маленький дом, грудь у нее выпятилась, подобно крыльцу; красное лицо, прикрытое и срезанное зеленым платком, напоминает слуховое окно, в час, когда стекла его отражают солнце.
Евсеенко, перекинув гармонию на грудь, играет. На гармонии множество ладов, звуки ее неотразимо тянут куда-то, со всей улицы катятся ребятишки, падают к ногам гармониста и замирают в песке, восхищенные.
– Погоди, свернут тебе башку, – обещает Евсеенко мужу.