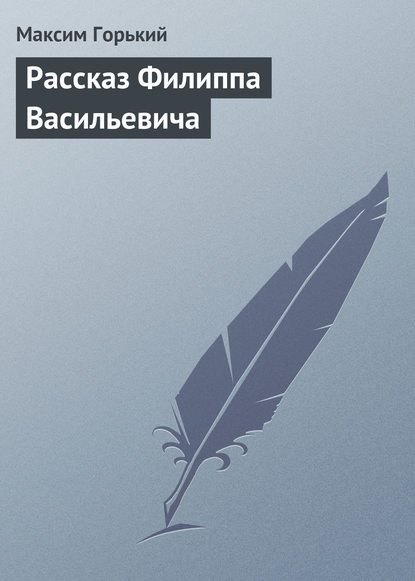По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рассказ Филиппа Васильевича
Автор
Год написания книги
1900
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я вновь, как прежде, одинок,
И снова жизнь моя темна.
Прощай, мой ясный огонёк!..
Прощай!
Прощай. Я поднял паруса,
Стою печально у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Всё, чем прощается земля
Со мной… Прощай!
Глухой голос его звучал однотонно, напоминая о чтении псалтыря над усопшим. Он помолчал, взглянул на меня и, вздохнув, продолжал:
Даль моря мне грозит бедой,
И червь тоски мне душу гложет,
И грозно воет вал седой…
Но – море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
Прощай!
Он замолчал, сидя неподвижно. Мне было неловко, я не знал, как помочь ему? Подумав, я решил действовать, как хирург, – сразу отсечь ненужное. Я спросил:
– Вы – влюбились?
– Ну да, – тихо сказал он.
– Кто она? Горничная Феклуша?
Он удивлённо поднял брови и ответил:
– Лидия Алексеевна…
Разумеется, я знал это, но не ожидал, что он скажет так прямо, и мне не хотелось слышать об этом из его уст. Мне было немного неприятно и очень смешно.
– Послушайте, голубчик, – заговорил я как мог серьёзно и ласково, – поймите, что ведь это же – забавно!
– Забавно? – тихо вскричал он, и глаза его удивлённо расширились.
– Ну да! – сказал я. – Мне прямо-таки трудно говорить с вами серьёзно…
– Почему? – повторил он сдавленный крик.
– Да, – вы подумайте: вам девятнадцать лет… ну, вы там кое-что видели, кое-что знаете, но – разве вы пара ей? Она – девушка образованная, с тонкими вкусами… ей органически враждебно всё грубое, – да не в этом дело, наконец! – а в полной невозможности такого сочетания, как она и вы… Человек неглупый, вы сами должны чувствовать эту невозможность…
– А я – не чувствую… – тихо, но упрямо сказал он и тем же тоном спросил: – Разве я не человек, как все?
Я пожал плечами и снова начал говорить ему, а он смотрел на меня серыми глазами, и я видел, что мои слова не действуют на него.
– И, наконец, – сказал я, отходя в сторону от Платона, – Лидия Алексеевна любит меня…
Он медленно встал со стула, плотно сжал губы, сгорбился и, забыв подать мне руку, ушёл…
Я посмотрел вслед ему и почувствовал, что мне надо серьёзно вмешаться в эту забавную, но неприятную историю…
На другой же день, вечером, я пришёл к Лидии Алексеевне и, осторожно, чтобы не очень насмешить её, но в то же время достаточно внушительно, сказал ей, что, пожалуй, будет лучше, если она перестанет обращать внимание на своего дворника.
– Почему? – удивлённо спросила она. – С ним очень интересно говорить… Иногда его рассказы, несмотря на их грубость, так трогательны… и так ярко рисуют жизнь простых людей… Почему же, деспот, я не должна разговаривать с ним?
Тогда я сказал прямо, что Платон влюбился в неё и что первая любовь, – какова бы она ни была, – на всю жизнь формирует сердце мужчины… Она брезгливо вздрогнула, её глазки сделались круглыми от изумления, щёчки ярко вспыхнули, и она взволнованно забегала по комнате, обиженная и смущённая.
– Как он смеет! – растерянно восклицала она. – Он? У него потные руки… и такие красные… и уши тоже красные… Но – как я сама не догадалась? Вот… смешной! Мне и жалко его… и это так нехорошо… Вы говорите – сочинил стихи?
– Даже, кажется, недурные, – заметил я.
– Нет, как же это я сама не заметила? Право, это интересно… влюблённый демократ… роман! Ах, боже мой! Но что же теперь с ним делать, Филипп Васильевич? Необходимо отказать ему от места, да?
– Отнюдь – не сейчас! – посоветовал я. – Зачем же оскорблять человека, когда можно обойтись без этого? Отказать ему от места, конечно, необходимо, но нужно сделать это осторожно… не вдруг…
– Я бы хотела всё-таки посмотреть его стихи, – задумчиво сказала она…
Вскоре я искренно и горько раскаялся в том, что дал такой совет, упустив из вида ребяческое легкомыслие Лидочки.
На другой же день я уехал из города, а через два-три дня уже все в доме знали, что дворник влюблён в барышню. Происходили, – как я потом узнал, – весёлые и, надо сказать правду, злые сценки.
– Платон! – звала Лидочка.
Он являлся.
– Вы любите меня? – ласково спрашивала она.
– Да! – твёрдо говорил дворник.
– Очень?
– Да, – повторял он.
– И, если бы я попросила вас о чём-нибудь, – мечтательно рассматривая его скуластое лицо, таинственно и тихо говорила Лидочка, – ведь вы всё сделаете для меня, Платон?
– Всё! – с непоколебимой уверенностью отвечал дворник.
– Ну, если так, – восторженно улыбаясь, продолжала она, – если так, дорогой мой Платон…
Лицо её становилось печальным, и, глубоко вздыхая, она заканчивала:
– Поставьте самовар…
Он шёл и ставил самовар, а скулы у него становились острее, и глаза всё глубже уходили под лоб.
Иногда Лидочка, расспросив Платона о силе его любви, заставляла его вымыть её грязные калоши или посылала его с запиской к подруге, и во всём, о чём она его просила, она всегда задевала его любовь.
И снова жизнь моя темна.
Прощай, мой ясный огонёк!..
Прощай!
Прощай. Я поднял паруса,
Стою печально у руля,
И резвых чаек голоса
Да белой пены полоса —
Всё, чем прощается земля
Со мной… Прощай!
Глухой голос его звучал однотонно, напоминая о чтении псалтыря над усопшим. Он помолчал, взглянул на меня и, вздохнув, продолжал:
Даль моря мне грозит бедой,
И червь тоски мне душу гложет,
И грозно воет вал седой…
Но – море всей своей водой
Тебя из сердца смыть не может!..
Прощай!
Он замолчал, сидя неподвижно. Мне было неловко, я не знал, как помочь ему? Подумав, я решил действовать, как хирург, – сразу отсечь ненужное. Я спросил:
– Вы – влюбились?
– Ну да, – тихо сказал он.
– Кто она? Горничная Феклуша?
Он удивлённо поднял брови и ответил:
– Лидия Алексеевна…
Разумеется, я знал это, но не ожидал, что он скажет так прямо, и мне не хотелось слышать об этом из его уст. Мне было немного неприятно и очень смешно.
– Послушайте, голубчик, – заговорил я как мог серьёзно и ласково, – поймите, что ведь это же – забавно!
– Забавно? – тихо вскричал он, и глаза его удивлённо расширились.
– Ну да! – сказал я. – Мне прямо-таки трудно говорить с вами серьёзно…
– Почему? – повторил он сдавленный крик.
– Да, – вы подумайте: вам девятнадцать лет… ну, вы там кое-что видели, кое-что знаете, но – разве вы пара ей? Она – девушка образованная, с тонкими вкусами… ей органически враждебно всё грубое, – да не в этом дело, наконец! – а в полной невозможности такого сочетания, как она и вы… Человек неглупый, вы сами должны чувствовать эту невозможность…
– А я – не чувствую… – тихо, но упрямо сказал он и тем же тоном спросил: – Разве я не человек, как все?
Я пожал плечами и снова начал говорить ему, а он смотрел на меня серыми глазами, и я видел, что мои слова не действуют на него.
– И, наконец, – сказал я, отходя в сторону от Платона, – Лидия Алексеевна любит меня…
Он медленно встал со стула, плотно сжал губы, сгорбился и, забыв подать мне руку, ушёл…
Я посмотрел вслед ему и почувствовал, что мне надо серьёзно вмешаться в эту забавную, но неприятную историю…
На другой же день, вечером, я пришёл к Лидии Алексеевне и, осторожно, чтобы не очень насмешить её, но в то же время достаточно внушительно, сказал ей, что, пожалуй, будет лучше, если она перестанет обращать внимание на своего дворника.
– Почему? – удивлённо спросила она. – С ним очень интересно говорить… Иногда его рассказы, несмотря на их грубость, так трогательны… и так ярко рисуют жизнь простых людей… Почему же, деспот, я не должна разговаривать с ним?
Тогда я сказал прямо, что Платон влюбился в неё и что первая любовь, – какова бы она ни была, – на всю жизнь формирует сердце мужчины… Она брезгливо вздрогнула, её глазки сделались круглыми от изумления, щёчки ярко вспыхнули, и она взволнованно забегала по комнате, обиженная и смущённая.
– Как он смеет! – растерянно восклицала она. – Он? У него потные руки… и такие красные… и уши тоже красные… Но – как я сама не догадалась? Вот… смешной! Мне и жалко его… и это так нехорошо… Вы говорите – сочинил стихи?
– Даже, кажется, недурные, – заметил я.
– Нет, как же это я сама не заметила? Право, это интересно… влюблённый демократ… роман! Ах, боже мой! Но что же теперь с ним делать, Филипп Васильевич? Необходимо отказать ему от места, да?
– Отнюдь – не сейчас! – посоветовал я. – Зачем же оскорблять человека, когда можно обойтись без этого? Отказать ему от места, конечно, необходимо, но нужно сделать это осторожно… не вдруг…
– Я бы хотела всё-таки посмотреть его стихи, – задумчиво сказала она…
Вскоре я искренно и горько раскаялся в том, что дал такой совет, упустив из вида ребяческое легкомыслие Лидочки.
На другой же день я уехал из города, а через два-три дня уже все в доме знали, что дворник влюблён в барышню. Происходили, – как я потом узнал, – весёлые и, надо сказать правду, злые сценки.
– Платон! – звала Лидочка.
Он являлся.
– Вы любите меня? – ласково спрашивала она.
– Да! – твёрдо говорил дворник.
– Очень?
– Да, – повторял он.
– И, если бы я попросила вас о чём-нибудь, – мечтательно рассматривая его скуластое лицо, таинственно и тихо говорила Лидочка, – ведь вы всё сделаете для меня, Платон?
– Всё! – с непоколебимой уверенностью отвечал дворник.
– Ну, если так, – восторженно улыбаясь, продолжала она, – если так, дорогой мой Платон…
Лицо её становилось печальным, и, глубоко вздыхая, она заканчивала:
– Поставьте самовар…
Он шёл и ставил самовар, а скулы у него становились острее, и глаза всё глубже уходили под лоб.
Иногда Лидочка, расспросив Платона о силе его любви, заставляла его вымыть её грязные калоши или посылала его с запиской к подруге, и во всём, о чём она его просила, она всегда задевала его любовь.