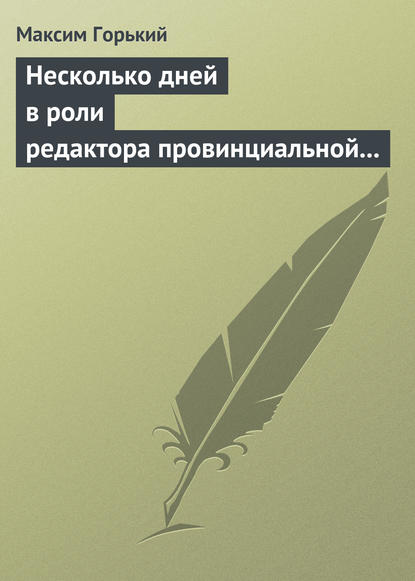По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Д-да… буду обижен, если не прочитаете. Прежний редактор ничего не понимал в литературе… Трижды я приходил и предлагал ему: «Печатай!» – «Нецензурно», говорит. – «Сокращу!..» – «Всё равно нельзя». Раз даже смел сказать мне, что выгонит вон. Хотел его бить… но он осторожен…
– Вы… бьёте редакторов, которые… отказывают вам в помещении ваших произведений? – осведомился я, чувствуя, что это высоко интересно для меня.
– Всегда! – кратко и внушительно сказал он. – Бью и публично изрыгаю на них хулу.
Заслуживают! Двенадцать лет тому назад написал вещь – и не могут напечатать! В двадцать редакций посылал, наверное, – и – ни одна! «Братья-писатели!» и так далее…. Нужно поощрять таланты, а вы, редакторы… чёррт!
– Я прочитаю… я вот сейчас возьму и прочитаю… – умиротворяюще произнёс я.
– Подожду… – И он сел на стул, грозно насупив брови.
– Нет, знаете что? Вы лучше идите…
– Куда?
– Домой… или куда вам угодно…
– Как эт-то понимать? а? Хорошо, не бойся – пойду… а ты мне дай двугривенный в счёт гонорара…
Я дал ему два пятиалтынных, и он ушёл. Я отёр пот со лба и посмотрел на рукопись. Она была довольно сильно потрепана и называлась… «Взгляд на мир с высоты каланчи. Откровенно философский взгляд на вещи, предметы, факты и события, а также и очерки из быта местной жизни и всякая всячина общежития, изложенная в форме отдельных сцен и в трёх отделениях. Часть (отделение) первое… Сверху вниз. Взгляд высокопоставленного человека на низшие потребности людей и необходимость их».
Я отложил «Взгляд» в сторону, чувствуя, что сразу, с первого дня, мне не по силам чтение таких мудрых вещей…
Пришёл хроникёр и мрачно заявил, что хроники нет.
– То есть – это как же?
– Событий нет…
– Но ведь в городе случилось же что-нибудь за сутки?
– Ничего не случилось. Никто не удавился, не утопился, ниже иным родом покончил с собой. Привыкли все к такой жизни… Живут, живут и привыкнут… Не только по собственному почину не умирают – силком не заставишь.
– Но ведь за сутки в чём-нибудь да выразилась же общественная жизнь! – огорчённо воскликнул я.
– Ничего нет… Ни драк, ни краж, никакого озорства. Ничего…
– Да, может, хоть лошадьми переехали кого ни то?
– Говорю вам – нет. Знал бы уж…
– Как же мы без хроники? а?
– Да я чего ни то напишу…
– То есть?
– Выдумаю какое ни то событие…
«Да… вон оно что! Значит, для оживления зеркала жизни газете иногда события-то выдумывать приходится», – сообразил я и в душе восхитился человеческой находчивостью…
Вошла барышня… Совсем молоденькая барышня, с бумажной трубочкой в руке. Она вошла и, покраснев, остановилась у двери.
Я спросил её, что ей угодно.
– Я, видите ли… написала стихи…
И она уже так покраснела, что мне даже стыдно стало чего-то. Я начал, как мог, утешать и ободрять её, говоря, что пусть она не смущается – нынче это поветрие, все ныне этим грешат, и что, в сущности, если говорить объективно, так поступок не особенно зазорен и даже может быть прощён ввиду её молодости. Пусть она доверится мне, – я не буду строг.
Грудным ребёнком я сам писал стихи «к ней…»
И даже пробовал трагедию.
– Ах! – сказала она тогда и подала мне свою бумажку…
Крылья ночи Мне на очи
Тёмный бросили покров;
Засыпаю
И мечтаю
Про объятья, про любовь…
Читал я и смотрел на неё. А ей было лет так около тринадцати. Увы! скорбно в такие молодые годы испытывать неудачи… и разочарования! Но она испытала их…
Виноват в этом я… Думаю всё-таки, что я не до смерти убил младенческую душу…
Потом принесли ещё стихи. Тоже девица, но уже лет на тридцать старше первой.
Она была одета в розовое платье, а её стихи начинались словами:
О, сколь в душе моей сокрыто страсти бурной.
И сколько в голове надежд на счастье чада!
Зубы у неё были чёрные оттого, очевидно, что чад надежд, переполняя голову, выходил из неё через рот…
Потом ещё пришли длинные стихи в клетчатых брюках и в жёлтых башмаках. Очень странные.
Потом явилась поэма в серенькой кружевной накидке. Ещё по почте получено четыре пакета стихов. Наконец я разделался с ними и взялся за корреспонденции. Корреспонденции были разные.
Большинство из них были длинны, безграмотны и таинственны – никак нельзя было понять, о чём они именно трактовали. Некоторые были кратки, ясны и грамотны – но в силу этих причин неудобны для печати. Были также серенькие корреспонденции, кисло-сладкого характера и невинного содержания. Мне, по неопытности моей, самыми удобными для газеты корреспонденциями показались краткие, ясные и грамотные. Их я решил сдать в набор. Хроникёр преподнёс несколько событий. Подкинул трёх младенцев, обличил мостовые, пустил в городскую пыль несколько стрел остроумия и полил всё это водой пространного рассуждения о женщине, покончившей с собой самоубийством. Вышло очень хорошо.
Затем я прочитал фунтов тридцать беллетристики. Несмотря на лёгкость содержания, она довольно сильно подавила мой дух, и точно я болотной воды напился – так неловко было мне.
Потом пришёл некий почтенный человек, просивший обличить своего соседа, удивительного мерзавца, убившего у него камнем курицу. Я отказался от обличения, ссылаясь на его голословность. Тогда он ушёл, обещая мне подтвердить факт трупом курицы, который он завтра готов принести в редакцию.
– По моему мнению, – сказал он мне на прощание, – долг прессы в том именно и заключается, чтоб доводить до сведения общества факты такие вопиющие, как вот этот, и защищать обывателя от злодейских посягательств на жизнь его домашних животных. Я, милостивый государь, человек семейный.
Мне его взгляд на задачи прессы показался несколько односторонним, и я задумался по поводу его. Но в то же время мне льстило то, что вот обыватель обращается к прессе и ищет у неё защиты. Значит, он доверяет ей и считает её в некотором роде силой. Это хорошо.