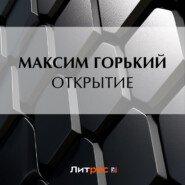По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Детство. В людях. Мои университеты
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Господи помилуй! Ты чего тут?..
Меня тронуло и смутило ее испуганное восклицание; я понял, что она испугалась за меня: страх и удивление так ясно выразились на ее умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.
– Посмотреть?! – насмешливо и сердито воскликнула она. – Это чего же, куда же ты смотришь? Прохожим в карманы да бабам за пазухи?
Лицо у нее было измятое, под глазами лежали густые тени, губы вяло опустились.
Остановясь у дверей трактира, она сказала:
– Идем, чаем напою! Одет – чистенько, не по-здешнему, а не верю я тебе что-то…
Но в трактире она как будто поверила мне и, разливая чай, стала скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и еще не пила, не ела.
– А вчера легла – пьяна-пьянехонька, уж и не помню: где пила, с кем?
Мне было жалко ее, неловко перед нею и хотелось спросить – где же ее дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила бойко, грубо, как все женщины этой улицы; но когда я спросил ее о дочери, сразу отрезвев, она крикнула:
– А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь, нет!
Выпила еще и рассказала:
– Дочери со мной делать нечего. Я – кто? Прачка. Какая я мать ей? Она – образованная, ученая. То-то, брат! И уехала от меня к богатой подруге, в учительницы будто…
Помолчав, она негромко спросила:
– Вот как! Прачка – вам не угодна? А гулящая баба – угодна?
Что она «гулящая», я, конечно, сразу видел это, – иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слезы, точно обожгла она меня этим сознанием – она, еще недавно такая смелая, независимая, умная!
– Эх ты, – сказала она, взглянув на меня и вздыхая. – Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую – не суйся сюда, пропадешь!
Потом тихонько и как бы сама себе она начала отрывисто говорить, наклоняясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе:
– А что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушала. Я кричу ей: «Не можешь ты родную мать свою бросить, что ты?» А она: «Удавлюсь», говорит. В Казань уехала, учиться в акушерки хочет. Ну, хорошо… Хорошо… А как же я? А я – вот так… К чему мне прижаться?.. А – к прохожему…
Замолчав, она долго думала о чем-то, беззвучно шевеля губами, и, видимо, забыла обо мне. Углы губ опустились, рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах и безмолвно говорят о чем-то трепетные морщинки. Лицо у нее было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза; женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжав еще две слезинки, потом вытерла лицо платком. У меня не хватило терпенья сидеть с нею дольше, я тихонько встал.
– Прощайте!
– А? Иди, иди к черту! – отмахнулась она, не глядя на меня, должно быть, забыв, кто с ней.
Я воротился на двор, к Ардальону, – он хотел идти со мною ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и Робенка уже не было на крыше; пока я искал их по запутанному двору, на улице начался шум скандала, обычный для нее.
Я вышел из ворот и столкнулся с Натальей, – всхлипывая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другою рукой встрепанные волосы, она слепо шла по панели, а за нею шагали Ардальон и Робенок; Робенок говорил:
– Дай ей еще раз, дай!
Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком; она обернулась грудью к нему; лицо у нее было страшное, глаза горели ненавистью.
– Н-на, бей! – крикнула она.
Я вцепился в руку Ардальона, он удивленно взглянул на меня.
– Чего ты?
– Не трогай, – едва мог сказать я ему.
Он захохотал.
– Она тебе – любовница? Ай да Наташка – сожрала монашка!
Робенок тоже хохотал, хлопая себя по бедрам, и они долго поджаривали меня в горячей грязи, – это было мучительно! Но пока они занимались этим, Наталья ушла, а я, не стерпев, наконец, ударил головою в грудь Робенка, опрокинул его и убежал.
С того дня я долго не заглядывал в Миллионную, но еще раз видел Ардальона, – встретил его на пароме.
– Ты – где пропал? – радостно спросил он.
Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся.
– Да разве это – всерьез? Это мы шутки ради помазали тебя! А она – да что же ее не бить, коли она – гулящая? Жен бьют, а таких и подавно не жаль! Только это все – баловство одно! Я ведь понимаю – кулак не наука!
– Да чему тебе учить ее? Чем ты лучше?..
Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой:
– В том и безобразие наше, что никто никого не лучше… Я, брат, все понимаю, и снаружи, и с изнанки, все! Я – не деревня…
Он был немножко выпивши, веселый; смотрел на меня с ласковым сожалением доброго учителя к бестолковому ученику…
… Иногда я встречал Павла Одинцова; он стал еще бойчее, одевался щеголем, говорил со мною снисходительно и все упрекал:
– За какую ты работу взялся – пропадешь! Мужики эти…
Потом грустно рассказывал новости из жизни мастерской.
– Жихарев все путается с коровой этой; Ситанов, видно, горюет: пить стал через меру. А Гоголева – волки съели; поехал он на Святки домой, а там его, пьяного, – волки и сожрали!
И, наливаясь веселым смехом, Павел смешно сочинял:
– Съели и – тоже все пьяные! Веселые стали, – ходят по лесу на задних лапах, как ученые собаки, воют, а через сутки – подохли все!..
Я слушал и тоже смеялся, но чувствовал, что мастерская со всем, что я пережил там, – далеко от меня. Это было немножко грустно.
Глава XIX
Зимою работы на ярмарке почти не было; дома я нес, как раньше, многочисленные мелкие обязанности; они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.
Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня:
Меня тронуло и смутило ее испуганное восклицание; я понял, что она испугалась за меня: страх и удивление так ясно выразились на ее умном лице. Наскоро я объяснил ей, что не живу в этой улице, а только иногда прихожу посмотреть.
– Посмотреть?! – насмешливо и сердито воскликнула она. – Это чего же, куда же ты смотришь? Прохожим в карманы да бабам за пазухи?
Лицо у нее было измятое, под глазами лежали густые тени, губы вяло опустились.
Остановясь у дверей трактира, она сказала:
– Идем, чаем напою! Одет – чистенько, не по-здешнему, а не верю я тебе что-то…
Но в трактире она как будто поверила мне и, разливая чай, стала скучно говорить о том, что она только час тому назад проснулась и еще не пила, не ела.
– А вчера легла – пьяна-пьянехонька, уж и не помню: где пила, с кем?
Мне было жалко ее, неловко перед нею и хотелось спросить – где же ее дочь? А она, выпив водки и горячего чаю, заговорила бойко, грубо, как все женщины этой улицы; но когда я спросил ее о дочери, сразу отрезвев, она крикнула:
– А тебе зачем знать это? Нет, милый, дочь мою ты не достанешь, нет!
Выпила еще и рассказала:
– Дочери со мной делать нечего. Я – кто? Прачка. Какая я мать ей? Она – образованная, ученая. То-то, брат! И уехала от меня к богатой подруге, в учительницы будто…
Помолчав, она негромко спросила:
– Вот как! Прачка – вам не угодна? А гулящая баба – угодна?
Что она «гулящая», я, конечно, сразу видел это, – иных женщин в улице не было. Но когда она сама сказала об этом, у меня от стыда и жалости к ней навернулись слезы, точно обожгла она меня этим сознанием – она, еще недавно такая смелая, независимая, умная!
– Эх ты, – сказала она, взглянув на меня и вздыхая. – Иди-ка ты отсюда! И прошу я тебя и советую – не суйся сюда, пропадешь!
Потом тихонько и как бы сама себе она начала отрывисто говорить, наклоняясь над столом и что-то рисуя пальцем на подносе:
– А что тебе мои просьбы и советы? Если дочь родная не послушала. Я кричу ей: «Не можешь ты родную мать свою бросить, что ты?» А она: «Удавлюсь», говорит. В Казань уехала, учиться в акушерки хочет. Ну, хорошо… Хорошо… А как же я? А я – вот так… К чему мне прижаться?.. А – к прохожему…
Замолчав, она долго думала о чем-то, беззвучно шевеля губами, и, видимо, забыла обо мне. Углы губ опустились, рот изогнулся серпом, и было мучительно смотреть, как вздрагивает кожа на губах и безмолвно говорят о чем-то трепетные морщинки. Лицо у нее было детское, обиженное. Из-под платка выбилась прядь волос и лежала на щеке, загибаясь за маленькое ухо. В чашку остывшего чая капнула слеза; женщина, заметив это, отодвинула чашку и крепко прикрыла глаза, выжав еще две слезинки, потом вытерла лицо платком. У меня не хватило терпенья сидеть с нею дольше, я тихонько встал.
– Прощайте!
– А? Иди, иди к черту! – отмахнулась она, не глядя на меня, должно быть, забыв, кто с ней.
Я воротился на двор, к Ардальону, – он хотел идти со мною ловить раков, а мне хотелось рассказать ему об этой женщине. Но его и Робенка уже не было на крыше; пока я искал их по запутанному двору, на улице начался шум скандала, обычный для нее.
Я вышел из ворот и столкнулся с Натальей, – всхлипывая, отирая головным платком разбитое лицо, оправляя другою рукой встрепанные волосы, она слепо шла по панели, а за нею шагали Ардальон и Робенок; Робенок говорил:
– Дай ей еще раз, дай!
Ардальон настиг женщину, помахивая кулаком; она обернулась грудью к нему; лицо у нее было страшное, глаза горели ненавистью.
– Н-на, бей! – крикнула она.
Я вцепился в руку Ардальона, он удивленно взглянул на меня.
– Чего ты?
– Не трогай, – едва мог сказать я ему.
Он захохотал.
– Она тебе – любовница? Ай да Наташка – сожрала монашка!
Робенок тоже хохотал, хлопая себя по бедрам, и они долго поджаривали меня в горячей грязи, – это было мучительно! Но пока они занимались этим, Наталья ушла, а я, не стерпев, наконец, ударил головою в грудь Робенка, опрокинул его и убежал.
С того дня я долго не заглядывал в Миллионную, но еще раз видел Ардальона, – встретил его на пароме.
– Ты – где пропал? – радостно спросил он.
Когда я сказал ему, что мне противно вспомнить, как он избил Наталью и грязно обидел меня, Ардальон добродушно засмеялся.
– Да разве это – всерьез? Это мы шутки ради помазали тебя! А она – да что же ее не бить, коли она – гулящая? Жен бьют, а таких и подавно не жаль! Только это все – баловство одно! Я ведь понимаю – кулак не наука!
– Да чему тебе учить ее? Чем ты лучше?..
Он обнял меня за плечи и, встряхивая, сказал с насмешкой:
– В том и безобразие наше, что никто никого не лучше… Я, брат, все понимаю, и снаружи, и с изнанки, все! Я – не деревня…
Он был немножко выпивши, веселый; смотрел на меня с ласковым сожалением доброго учителя к бестолковому ученику…
… Иногда я встречал Павла Одинцова; он стал еще бойчее, одевался щеголем, говорил со мною снисходительно и все упрекал:
– За какую ты работу взялся – пропадешь! Мужики эти…
Потом грустно рассказывал новости из жизни мастерской.
– Жихарев все путается с коровой этой; Ситанов, видно, горюет: пить стал через меру. А Гоголева – волки съели; поехал он на Святки домой, а там его, пьяного, – волки и сожрали!
И, наливаясь веселым смехом, Павел смешно сочинял:
– Съели и – тоже все пьяные! Веселые стали, – ходят по лесу на задних лапах, как ученые собаки, воют, а через сутки – подохли все!..
Я слушал и тоже смеялся, но чувствовал, что мастерская со всем, что я пережил там, – далеко от меня. Это было немножко грустно.
Глава XIX
Зимою работы на ярмарке почти не было; дома я нес, как раньше, многочисленные мелкие обязанности; они поглощали весь день, но вечера оставались свободными, я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы», из «Московского листка», а по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи.
Однажды, когда женщины ушли ко всенощной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня: