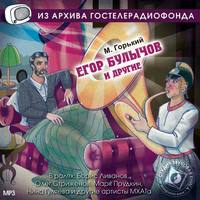Толстой. Чехов. Ленин
Савва Мамонтов, строитель Северной дороги, будучи на Капри уже после смерти Н. Г., вспомнил о нем такими словами:
– Талантлив был, во все стороны талантлив! Даже инженерскую тужурку свою талантливо носил.
А Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них, многих таких, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов, – и не только этих, – поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно, даровит.
Возвратясь из Маньчжурии и Кореи, Гарин был приглашен в Аничков дворец к вдовствующей царице, Николай Второй пожелал выслушать его рассказ о путешествии.
– Это провинциалы! – недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце.
И рассказал о своем визите приблизительно так:
– Не скрою: я шел к ним очень подтянувшись и даже несколько робея. Личное знакомство с царем ста тридцати миллионов народа – это не совсем обыкновенное знакомство. Невольно думалось: такой человек должен что-то значить, должен импонировать. И вдруг: сидит симпатичный пехотный офицер, курит, мило улыбается, изредка ставит вопросы, но все не о том, что должно бы интересовать царя, в царствование которого построен действительно великий Сибирский путь и Россия выезжает на берега Тихого океана, где ее встречают вовсе не друзья и – не радостно. Может быть, я рассуждаю наивно, царь не должен беседовать о таких вопросах с маленьким человеком? Но тогда – зачем же звать его к себе? А если позвал, то умей отнестись серьезно и не спрашивай: любят ли нас корейцы? Что ответишь? Я тоже спросил и неудачно: «Вы кого подразумеваете?» Забыл, что меня предупредили: спрашивать я не могу, должен только отвечать. Но ведь как же не спросить, если сам он спрашивает и скупо и глупо, а дамы – молчат? Старая царица удивленно поднимает то одну, то другую бровь. Молодая, рядом с ней, точно компаньонка, сидит в застывшей позе, глаза каменные, лицо – обиженное. Внешне она напомнила мне одну девицу, которая, прожив до тридцати четырех лет, обиделась на природу за то, что природа навязала женщине обязанность родить детей. А – ни детей, ни даже простенького романа у девицы не было. И сходство царицы с нею тоже как-то мешало, стесняло меня. В общем, было очень скучно.
Он и рассказал все это очень торопливо и точно досадуя, что приходится рассказывать неинтересное.
Через несколько дней его официально известили, что царь дал ему орден, кажется Владимира, но ордена он не получил, потому что вскоре был административно выслан из Петербурга за то, что вместе с другими литераторами подписал протест против избиения студентов и публики, демонстрировавшей у Казанского собора.
Над ним посмеялись:
– Ускользнул орден-то, Николай Георгиевич?
– Черт бы их подрал, – возмущался он, – у меня тут серьезное дело, и вот – надо ехать! Нет, сообразите, как это глупо! Ты нам не нравишься, поэтому не живи и не работай в нашем городе! Но ведь в другом-то городе я останусь таким же, каков есть!
Через несколько минут он говорил уже о необходимости лесонасаждения в Самарской губернии, для того чтоб преградить движение песков с востока.
У него всегда были в голове широкие проекты, и, пожалуй, чаще всего он говорил:
– Надо бороться.
Бороться надобно было с обмелением Волги, популярностью «Биржевых ведомостей» в провинции, с распространением оврагов, вообще – бороться!
– С самодержавием, – подсказал ему рабочий Петров, гапоновец, а Н. Г. весело спросил его:
– Вы недовольны тем, что ваш враг – глуп, хотите поумнее, посильнее?
Слепой Шелгунов, старый революционер, один из первых рабочих-эсдеков, осведомился:
– Это – кто сказал? Хорошо сказал.
Было это в Куоккале, летом 1905 года. Н. Г. Гарин привез мне для передачи Л. Б. Красину в кассу партии 15 или 25 тысяч рублей и попал в компанию очень пеструю, скромно говоря. В одной комнате дачи заседали с П. М. Рутенбергом два еще не разоблаченных провокатора – Евно Азеф и Татаров. В другой – меньшевик Салтыков беседовал с В. Л. Бенуа о передаче транспортной техники «Освобождения» петербургскому комитету и, если не ошибаюсь, при этом присутствовал тоже еще не разоблаченный Доброскок – Николай Золотые Очки. В саду гулял мой сосед по даче пианист Осип Габрилович с И. Е. Репиным; Петров, Шелгунов и Гарин сидели на ступеньках террасы. Гарин, как всегда, торопился, поглядывал на часы и вместе с Шелгуновым поучал неверию Петрова, все еще веровавшего в Гапона. Потом Гарин пришел ко мне, в комнату, из которой был выход к воротам дачи.
Мимо нас проследовали к поезду массивный, толстогубый, со свиными глазками Азеф, в темно-синем костюме, дородный, длинноволосый Татаров, похожий на переодетого соборного дьякона, вслед за ними ушли хмурый, сухонький Салтыков, скромный Бенуа. Помню, Рутенберг, подмигнув на своих провокаторов, похвастался мне:
– Наши-то солиднее ваших.
– Сколько у вас бывает народа, – сказал Гарин и вздохнул. – Интересно живете!
– Вам ли завидовать?
– А – что я? Я вот езжу туда-сюда, как будто кучер дьявола, а жизнь проходит, скоро – шестьдесят лет, а что я сделал?
– «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» – целая эпопея!
– Вы очень любезны, – усмехнулся он. – Но ведь вы знаете, что все эти книжки можно бы и не писать.
– Очевидно – нельзя было не писать.
– Нет, можно. Да и вообще теперь время не для книжек…
Кажется, впервые я видел его усталым и как бы в некотором унынии, но это потому, что он был нездоров, его лихорадило.
– Вас, батенька, скоро посадят, – вдруг сказал он. – Это мое предчувствие. А меня закопают – тоже предчувствие.
Но через несколько минут, за чаем, он снова был самим собой и говорил:
– Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда, никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас. Ну-с, до свидания! Я – пошел.
Это было последнее наше свидание. Он так и умер «на ходу», – участвовал в каком-то заседании по литературным делам, сказал горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилег на диван, и паралич сердца оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека.
Сергей Есенин
В седьмом или восьмой году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.
Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15–17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.
Такие чистенькие мальчики – жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции – детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».
Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.
Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что, в общем, он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он – человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее – серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит, что именно забыто им?
Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.
– Тоже поэт, – сказал о нем Есенин тихо и с хрипотой.
Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».
Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню – было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.
У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.
Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.
Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:
Хорошо бы, на стог улыбаясь,Мордой месяца сено жевать!Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:
Я хожу в цилиндре не для женщин —В глупой страсти сердце жить не в силе —В нем удобней, грусть свою уменьшив,Золото овса давать кобыле.Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:
Излюбили тебя, измызгали…И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.
Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:
Что ты смотришь так синими брызгами?Иль в морду хошь?… Дорогая, я плачу,Прости… прости…Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!Что ты? Смерть?Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:
Я хочу видеть этого человека!И великолепно был передан страх:
Где он? Где? Неужели его нет?Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно – под ноги себе, другое – далеко, третье – в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза – все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.
Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:
Вы с ума сошли?– громко и гневно, затем тише, но еще горячей:
Вы с ума сошли?И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:
Вы с ума сошли?Кто сказал вам, что мы уничтожены?Неописуемо хорошо спросил он:
Неужели под душой так же падаешь, как под ношею?И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:
Дорогие мои…Хор-рошие…Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он – думаю – и не нуждался в них.
Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.
– Если вы не устали…
– Я не устаю от стихов, – сказал он и недоверчиво спросил:
– А вам нравится о собаке?
Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.
– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:
Покатились глаза собачьиЗолотыми звездами в снег– на его глазах тоже сверкнули слезы.
После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей»[5], любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.
А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:
– Куда-нибудь в шум, – сказал он.
Решили: вечером ехать в Луна-парк.
Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.
– Очень хороши рошен, – растроганно говорила она. – Такой – ух! Не бывает…
Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:
– Не смей целовать чужих!
Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.
Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать «музыкой для толстых».
– Настроили – много, а ведь ничего особенного не придумали, – сказал Есенин и сейчас же прибавил: – Я не хаю.
Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».
– Короткие слова всегда лучше многосложных, – сказал он.
Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:
– Вы думаете, мои стихи – нужны? И вообще искусство, то есть поэзия – нужна?
Вопрос был уместен как нельзя больше, – Луна-парк забавно живет и без Шиллера.
Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:
– Пойдемте вино пить.
На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:
– Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.
Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:
– Все хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А – вы?
Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.
В. И. Ленин
Владимир Ленин умер.
Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».
Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:
«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».
По тону статьи ясно, что вызвало ее не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «Труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, – нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.
Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.
Писать его портрет – трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как все, что говорилось им.
Героизм его почти совершенно лишен внешнего блеска, его героизм – это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убежденного в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для счастья людей.
То, что написано мною о нем вскоре после его смерти, – написано в состоянии удрученном, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь, вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многой мудрости – много печали».
Далеко вперед видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19–21 годах, нередко «безошибочно предугадывал, каковы они будут «через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, немало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нем написаны, кроме того что плохо, еще и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда, с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною, превосходно освещенный сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.
Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри ее – полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а – у входа в него, между двух дверей.
До этого года я не встречал Ленина да и читал его не так много, как бы следовало. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мою руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:
– Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.
Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь – как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя». Я – литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда – уже надоедливой.
Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомленный своими обязанностями учитель еще на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».
А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одною рукой сократовский лоб, дергая другою мою руку, ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать»: оказалось, что он прочитал ее в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но – не успел объяснить, почему торопился, – Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга – нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.
«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала – поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлек рабочих, подошел, кажется, Фома Уральский и еще человека три.
Я был настроен очень празднично, я находился в среде трех сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное мое настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие мое сильно понизилось.
Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.
Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были пришпилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Все вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:
– Мальцейт[6].
Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит – плохо, немецкое «цейт» – время, вышло: плохое время.
Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво, вино было кислое и теплое, пиво хорошее; о Русской революции и партии с.-д. говорили тоже кисловато и снисходительно, а о своей, немецкой партии – очень хорошо! Вообще – все было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.
К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20 % со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть – мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие, лично меня касалось только на четверть, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три-четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов, – говоря по совести, я предпочел бы, чтоб ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус.