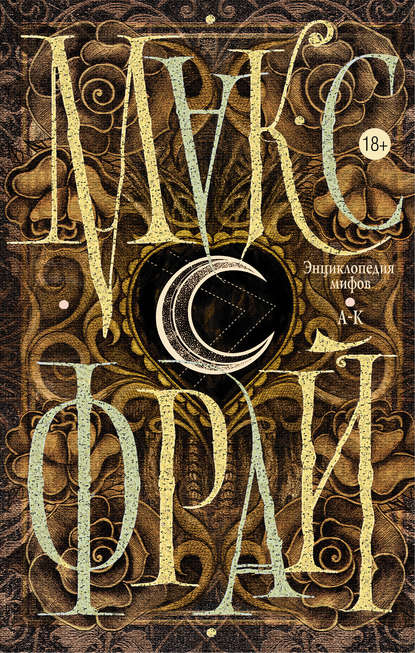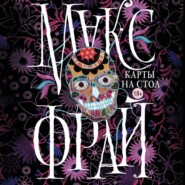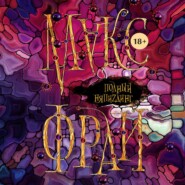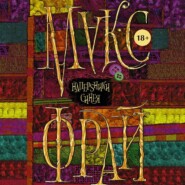По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Энциклопедия мифов. А-К
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Совершенно верно.
Снова пауза. Разбавляем беседу молчанием, как кофе молоком, чтобы не горчила. Ташка свернулась калачиком на диване, рот приоткрыт, ладошка под щекой. Дрыхнет. Я начинаю думать, что природа ее сна не менее загадочна, чем давешний вид из окна. Она спит не потому, что устала, а отправлена в сон за ненадобностью, дабы не мешать происходящему. Будить Наташку мне совсем не хочется: действительно не до ее щебета сейчас. Но все равно жутковато. Я отворачиваюсь: пусть взгляд скользит по столешнице, по потолку, по Оллиным браслетам; будем считать, что я еще не готов созерцать спящих красавиц. Дух мой не столь тверд и невозмутим, как у сказочных принцев. По крайней мере, пока.
– Большинство мужчин созданы для войны; большинство женщин – для любви.
Скажите пожалуйста, какая неожиданность! Олла решилась наконец прервать молчание – и ради чего, спрашивается? Чтобы обрушить на меня приторную банальность?!
– В обыденной жизни это обычно сводится к тому, что первые явно или тайно соревнуются с каждым встречным, а вторые погрязают в скучном семейном блядстве, – холодно заключает она. – Одно из твоих правил гласит: не имей дела ни с теми, ни с другими. По крайней мере, не играй с ними в их игры. Не соперничай с мужчинами, рожденными для войны; не связывайся с женщинами, созданными для любви. Не принимай их всерьез; не давай им принимать всерьез тебя. Лукавь, ускользай, выкручивайся, ты это умеешь. Можешь ездить вместе с ними в городском транспорте, но этим, пожалуйста, и ограничься.
9. Аид
– Они… опасны? – спрашиваю я, почему-то свистящим шепотом.
– Вот именно. Смертельно опасны. Они могут сбить тебя с толку. Твоя игровая доска пока похожа на болото. Ты можешь передвигаться только по кочкам: и островки безопасности, и указатели направления. Шаг в сторону – заплутаешь, утонешь. Не давай сбить себя с толку.
Я вопросительно поднимаю брови. Да что брови, я весь – вопрос, даже позвоночник мой изогнулся вопросительным знаком, и кончик носа зудит от напряжения. Я силюсь понять.
– Обычная, нормальная жизнь для тебя погибель, – устало поясняет Олла. – Это не метафора. Ты не сможешь играть по общепринятым правилам и сдохнешь под забором, дурное дело нехитрое. А если произойдет чудо, и ты научишься быть обычным человеком, сдохнешь по другой причине, без всяких там заборов. За ненадобностью. Хочешь выжить – юродствуй, у тебя это славно получится. Будь поэтом или знахарем, забавным городским чудаком или маньяком-убийцей, или монахом, или странствующим Казановой; предложи свои услуги спецслужбам, или запишись в революционеры; на худой конец, можешь стать сутенером или уличным музыкантом…
– Это как раз невозможно. У меня нет слуха.
– Ну, значит, уличного музыканта из списка приемлемых для тебя судеб придется вычеркнуть. Впрочем, мы с тобой говорим не о подобающем тебе занятии, а о способе бытия. Тебе нельзя отвлекаться на попытки зажить нормальной жизнью по общепринятым правилам, только и всего. Работать при этом можно хоть участковым милиционером – если, конечно, у тебя хватит пороху разыгрывать такой спектакль.
10. Айы
– А можно я не буду участковым милиционером? – вежливо спросил я.
– Можно, – великодушно разрешила гадалка.
– А что мне еще можно? Что нельзя жить нормальной жизнью и иметь дело с нормальными людьми, это я уже понял. А с кем мне в таком случае можно иметь дело?
– Со всеми остальными. С мужчинами, которые не стремятся к первенству, с женщинами, которые не озабочены поисками любви. С ангелами и с чудовищами, с монстрами и святыми – хотя, на первый взгляд, они, возможно, ничем не отличаются от прочих… Околачивайся поближе к людям, которым чуждо хоть что-нибудь человеческое. К тем, кто действительно имеет значение, и к тем, кто не имеет значения вовсе. Научись узнавать их в толпе, наловчись подбирать к ним ключи, поищи в своем сердце сокровища, которыми их можно соблазнить. Это непросто, но дело того стоит. Именно они бросают кости в твоей игре – даже в тех случаях, когда ты уверен, что событиями движет твоя собственная рука…
– Ты меня напугала, – честно признался я. – Грустно это все. Мне бы хотелось думать, что ты просто морочишь мне голову, но… я откуда-то знаю, что не морочишь. И от этого жутко делается.
– Ну, может быть, жутко, – ее руки взлетели к вискам, пальцы погрузились в лисий шелк шевелюры, губы дрогнули в мечтательной улыбке. – Но на самом-то деле я говорю тебе прекрасные вещи. Я тебе даже завидую, откровенно говоря. Я бы с радостью поменялась с тобой судьбами; я бы украла твою жизнь, не раздумывая, но я не умею. Древнее это искусство, кажется, утрачено безвозвратно… Очень может быть, что тебе предстоит несколько нелегких дней или даже лет, это правда. Ты не захочешь, да и не сможешь принять свою судьбу, и будешь бегать: от нее, от себя, от моих предсказаний и от собственных предчувствий. Но даже эта дурацкая беготня – чудесное занятие, и мне искренне жаль, что я не смогу к тебе присоединиться.
– А почему? – печально спросил я, и сам оторопел от собственного вопроса, а еще больше – от невесть откуда взявшейся печали. В этот момент не было на земле существа, более близкого мне, чем эта странная рыжая женщина с непростым характером и нелепой профессией. Впрочем, сейчас, кроме нас двоих, вообще никого на земле не было, в этом, наверное, все дело.
– Ну… так уж сложилось, – неопределенно объяснила Олла. – Я пока не могу покинуть этот город, а ты не сможешь тут оставаться… Впрочем, сам увидишь, как все сложится. Тебе скорее понравится, чем нет, я так думаю.
– Не расскажешь подробнее?
– Не расскажу. Зато открою тебе еще одно правило твоей игры. Скоро, совсем скоро ты сам сможешь ответить на все вопросы: свои, чужие, чьи угодно. Если захочешь, ты станешь прекрасным оракулом, только не вздумай следовать традиционным ритуалам: они для тебя губительны. Будь внимателен, и весь мир станет твоей гадальной колодой. Трещины на асфальте и ветви деревьев будут принимать форму рун – ты только научись их читать. Книга, открытая наугад, будет содержать ответ на любой твой вопрос; птицы всегда укажут тебе верное направление, а из номеров проезжающих мимо тебя автомобилей сложатся формулы, расшифровав которые, ты не только свинец, но и кошачий помет превратишь в золото. Если захочешь заниматься такой ерундой, конечно.
– Даже так? – лепечу, едва разлепив пересохшие вдруг губы. Я сбит с толку, выбит из колеи, сижу дурак дураком. У меня была такая хорошая «своя тарелка», а меня оттуда насильственно извлекли. Олла наматывает меня на вилку, как некую причудливую макаронину. Есть, правда, вроде бы не собирается – и на том спасибо.
За окном пронзительно каркнула ворона, словно бы подавая сигнал затаившемуся в ожидании подходящего момента невидимому оркестру урбанистической культуры. Где-то рядом, возможно, в соседней квартире, звонко залаяла собака, откуда-то издалека тут же откликнулась ее басовитая товарка. Взвыл автобус, ударилось об асфальт стекло, вместилище живительной влаги (предсмертный звон бьющейся бутылки ни с чем не спутаешь), печально, с бессильной старческой хрипотцой заматерилась жертва прискорбных обстоятельств. Взвыла сирена скорой помощи, заржали подростки; визгливое сопрано зазывало домой какого-то Шуру – не то конопатого дошкольника, не то сорокалетнего алкаша, сразу ведь не разберешь. Инструменты оркестра звучали слаженно, городская симфония еще никогда не представлялась мне столь продуманным, гармоничным и завершенным произведением. Но насладиться ею в полном объеме мне не довелось.
– Все, твое время вышло, – объявила Олла. – Тебе пора домой. Наталью не буди, пусть еще у меня погостит. В любом случае, вам не по дороге.
– Да нет, по дороге, если ехать на сто сорок третьем автобусе, просто ей выходить на пять остановок раньше… впрочем, мы все равно кофе пить собирались в центре.
– Мало ли что вы собирались… И при чем тут какой-то автобус? «Не по пути» – это значит, что не тебе ее будить. Не твоего это ума дело, Макс. Тебе сейчас нужно не в кофейню, а домой. Запереться там от всех друзей-приятелей, распутать нитку и сжечь ее. А потом – прожить ночь, которая наступит. Все, что случится с тобой между моим подъездом и завтрашним рассветом, – очень важно. Это – карта. Это твое главное дело сейчас.
– Ничего не понимаю. Какая карта? Это метафора? – я жаждал развернутых пояснений, но она подняла меня со стула и чуть не насильно подталкивала к выходу.
– Метафора, не метафора… Тут и понимать-то нечего. Просто распутай нитку, сожги ее и доживи до рассвета. Проживи эту ночь с широко открытыми глазами. Действуй по обстоятельствам, смотри по сторонам, запоминай, мотай на ус. Больше ничего от тебя не требуется.
– А я могу еще раз зайти к тебе? Завтра, или в четверг, или когда скажешь…
– Может быть, и можешь. Но вряд ли захочешь. Не до меня тебе будет в ближайшее время.
– Все так ужасно?
– Наоборот. Изумительно. У тебя все будет в порядке, – шепнула Олла, открывая мне дверь. – Лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать. Много лучше. Это тоже правило твоей игры. Последнее на сегодня.
11. Акахада-но усаги
Шестьдесят шесть ступенек вниз – я считал их, словно бы творил некое спасительное заклинание. Распахнув дверь подъезда, вознес безмолвную, но прочувствованную молитву неведомым милосердным богам: городской пейзаж был скуден, скучен и неизменен; асфальт под ногами – щербат, но упоительно тверд; небо над головой – легкомысленная сатиновая синь, этакие необъятные «семейные» трусы божества, как и положено нормальному майскому небу. Мир уцелел. Я, кажется, тоже.
Ехать домой не хотелось. То есть ехать хотелось, но не домой, а просто ОТСЮДА, из этого стремного места, где хрущевские пятиэтажки имеют обыкновение становиться призраками небоскребов, а изящные рыженькие женщины обладают скверными манерами и тяжелым характером древних пророков. Мне требовалось немедленно оказаться где-нибудь в центре города, где шумно, людно, суетно; где на любом углу на одну чужую рожу приходится полтора десятка смутно знакомых рыл. Пусть берут меня под руки, ведут куда-нибудь и врачуют своими милыми повседневными глупостями, потому что…
Я и себе-то не мог толком объяснить, что именно со мной не в порядке. Просто во всем происходящем мне теперь чудилась некая недостоверность. Небо было расположено то ли слишком близко к земле, то ли чересчур высоко; автомобили и автобусы ехали по шоссе то ли необычайно быстро, то ли, напротив, непривычно медленно; прохладный морской ветер проникал не только под одежду, но, кажется, под самую кожу, отчего мышечная мякоть зябко содрогалась, а кончики пальцев твердели и теряли чувствительность – это на весеннем-то солнце! Прохожие… С прохожими была какая-то отдельная беда: они словно бы не видели меня, а если подходили слишком близко – поспешно отводили глаза и огибали мою замершую на перекрестке тушку по какой-то слишком уж крутой дуге. Возможно, впрочем, мне это только мерещилось, но впечатление складывалось тягостное. Я и прежде не раз охотно именовал себя «ссыльным инопланетянином», но это была всего лишь поза, умозрительная картинка, нарисованная для ублажения собственного честолюбия («я не такой, как все» – о-о-о-о-о, круто, круто!). А вот сейчас я впервые почувствовал себя чужеродным предметом в мире людей, причудливой унылой кляксой на жизнерадостном предвечернем фоне южного города. И ощущение это оказалось скорее малоприятным телесным переживанием, чем сладостным плодом умственного усилия. Я испытывал легкую, но изматывающую дурноту. Нет, меня не тошнило от окружающего мира, но я явственно чувствовал, что мир тошнит от меня. Я был куском непереваренной органики – только-то. И библейско-достоевская цитата: изблюю тебя из уст моих, – казалась удивительно актуальной.
От этого морока, как я тогда полагал, существовал лишь один рецепт: быстренько добраться до центра, отыскать там теплую компанию друзей-приятелей, как следует выпить (хоть и не люблю я напиваться, но сегодня – сегодня сам бог велел!). Подвернется коробок травы – еще лучше. Но никаких галлюциногенов: их мой организм, кажется, начал вырабатывать самостоятельно… Оглушить себя, довести до ручки, притупить ощущения, усыпить разум; хорошо бы еще привести домой женщину, все равно кого, лишь бы без особых проблем. Чтобы осталась до утра, потому что сегодня я буду бояться темноты…
У меня была слабая надежда, что после столь интенсивного терапевтического курса я проснусь как новенький. С квадратной головой, конечно, не без того, но морок уйдет. И это главное.
Я так стремился к исцелению, что решил взять такси. Это, конечно, была чистой воды дурь: деньги у меня в последнее время появлялись редко, помалу и без гарантии новых поступлений. Одна поездка в такси – это два дня умеренно сытой жизни. Или один день, но суперсытой. Или три похода в кофейню. Или полкутежа. Или много хорошей пленки для фотоаппарата, или треть платы за электричество, каковое мне уже не раз грозились отключить за долги, или… В общем, я не мог позволить себе тратить деньги на такси. Но сейчас это не имело значения. Поездка на такси займет десять минут, а на автобусе, огородами, да со всеми остановками – сорок, не меньше. И ждать его еще придется – хорошо если полчаса, а то ведь и до ночи, если не до следующей реинкарнации.
Синяя «копейка» затормозила сразу же, стоило руку поднять. Я возликовал и вежливо осведомился у пожилого усатого мужика, подвезет ли он меня к театру на улице Леннона (центральную улицу города, названную в честь первой русской мумии, пока не спешили переименовывать, и черт с нею: еще два поколения назад городская молодежь наловчилась должным образом комкать ульяновское погонялово; традицию постепенно усвоили даже те горожане, чьи музыкальные пристрастия ограничивались Пугачевой да Джо Дассеном). Дядечка флегматично кивнул, не стал даже цену поездки назначать заранее, оставляя сей животрепещущий вопрос на мое усмотрение. Словно догадывался, что в таких случаях я плачу чуть больше, чем положено.
Курить в машине мне великодушно разрешили; самое же удивительное, что в салоне имелся кассетный магнитофон – не встроенная магнитола, конечно, тогда такая роскошь была редкостью – просто лежала на заднем сидении маленькая переносная «сонька» и сипло насвистывала некий приятственный джазец. Я расслабился. Курил, слушал музыку, гадал, кто из приятелей встретится мне сейчас первым и хватит ли заначенной в нагрудном кармане пятерки для овеществления запланированного загула; на все формы размышлений о давешнем визите к гадалке был наложен строжайший запрет. Я умею держать себя в узде, если очень припрет.
Релаксация моя достигла неописуемых высот, когда водитель остановил машину. Я полез в карман за деньгами. К моему изумлению, он буркнул: «Не надо, мне по дороге было», – неслыханное событие для новой, только-только наступившей, эпохи всеобщей экономической неприкаянности. Я так растерялся, что, кажется, даже поблагодарить забыл усатого своего благодетеля. Вылез из машины чуть не в полуобморочном состоянии: скорее, скорее, пока ангелы-хранители мои не опомнились и не вразумили этого блаженного.
Когда я понял, что меня высадили вовсе не напротив театра драмы на Ленина-Леннона, а на углу улицы Шевченко и проспекта Мира, точнехонько у моего подъезда, синей «копейки» и след простыл.
– Ну, дела… – жалобно сказал я сам себе. – Я же его просил… Адрес-то мой как он угадал, а?
Ответа, разумеется, не последовало. Небеса не разверзлись, дабы отправить мне огненный факс с пояснениями, да и лукавый Мефистофель не тявкнул из-за угла черным пуделем. Напрасно, кстати: я бы сейчас охотно уступил ему свои Ка, Ба, Ах и прочие метафизические кишки, если бы в пакет дьявольских предложений входил полный набор четких и ясных ответов на все мои вопросы. Однако Фауста из меня не получилось.
По всему выходило, что мне следует идти домой и выполнять нехитрую инструкцию суровой Оллы-Хельги. Знак судьбы и все такое… Ага, как же!
Когда я понимаю, что меня к чему-то принуждают, я теряю разум. В таких случаях я упрям как осел и не способен трезво оценить ситуацию. Я буду стоять насмерть за право поступить по-своему, даже если в глубине души знаю, что затеял глупость. Я и летать-то, вероятно, до сих пор не научился потому лишь, что никто никогда не запрещал мне летать. Попробовали бы!
Поэтому я пожал плечами, сунул руки в карманы и зашагал прочь. От моего дома до пресловутой улицы имени мумии и музыканта всего-то минут пятнадцать пешком. А если быстро идти, то и вовсе десять. А если очень быстро…
Снова пауза. Разбавляем беседу молчанием, как кофе молоком, чтобы не горчила. Ташка свернулась калачиком на диване, рот приоткрыт, ладошка под щекой. Дрыхнет. Я начинаю думать, что природа ее сна не менее загадочна, чем давешний вид из окна. Она спит не потому, что устала, а отправлена в сон за ненадобностью, дабы не мешать происходящему. Будить Наташку мне совсем не хочется: действительно не до ее щебета сейчас. Но все равно жутковато. Я отворачиваюсь: пусть взгляд скользит по столешнице, по потолку, по Оллиным браслетам; будем считать, что я еще не готов созерцать спящих красавиц. Дух мой не столь тверд и невозмутим, как у сказочных принцев. По крайней мере, пока.
– Большинство мужчин созданы для войны; большинство женщин – для любви.
Скажите пожалуйста, какая неожиданность! Олла решилась наконец прервать молчание – и ради чего, спрашивается? Чтобы обрушить на меня приторную банальность?!
– В обыденной жизни это обычно сводится к тому, что первые явно или тайно соревнуются с каждым встречным, а вторые погрязают в скучном семейном блядстве, – холодно заключает она. – Одно из твоих правил гласит: не имей дела ни с теми, ни с другими. По крайней мере, не играй с ними в их игры. Не соперничай с мужчинами, рожденными для войны; не связывайся с женщинами, созданными для любви. Не принимай их всерьез; не давай им принимать всерьез тебя. Лукавь, ускользай, выкручивайся, ты это умеешь. Можешь ездить вместе с ними в городском транспорте, но этим, пожалуйста, и ограничься.
9. Аид
– Они… опасны? – спрашиваю я, почему-то свистящим шепотом.
– Вот именно. Смертельно опасны. Они могут сбить тебя с толку. Твоя игровая доска пока похожа на болото. Ты можешь передвигаться только по кочкам: и островки безопасности, и указатели направления. Шаг в сторону – заплутаешь, утонешь. Не давай сбить себя с толку.
Я вопросительно поднимаю брови. Да что брови, я весь – вопрос, даже позвоночник мой изогнулся вопросительным знаком, и кончик носа зудит от напряжения. Я силюсь понять.
– Обычная, нормальная жизнь для тебя погибель, – устало поясняет Олла. – Это не метафора. Ты не сможешь играть по общепринятым правилам и сдохнешь под забором, дурное дело нехитрое. А если произойдет чудо, и ты научишься быть обычным человеком, сдохнешь по другой причине, без всяких там заборов. За ненадобностью. Хочешь выжить – юродствуй, у тебя это славно получится. Будь поэтом или знахарем, забавным городским чудаком или маньяком-убийцей, или монахом, или странствующим Казановой; предложи свои услуги спецслужбам, или запишись в революционеры; на худой конец, можешь стать сутенером или уличным музыкантом…
– Это как раз невозможно. У меня нет слуха.
– Ну, значит, уличного музыканта из списка приемлемых для тебя судеб придется вычеркнуть. Впрочем, мы с тобой говорим не о подобающем тебе занятии, а о способе бытия. Тебе нельзя отвлекаться на попытки зажить нормальной жизнью по общепринятым правилам, только и всего. Работать при этом можно хоть участковым милиционером – если, конечно, у тебя хватит пороху разыгрывать такой спектакль.
10. Айы
– А можно я не буду участковым милиционером? – вежливо спросил я.
– Можно, – великодушно разрешила гадалка.
– А что мне еще можно? Что нельзя жить нормальной жизнью и иметь дело с нормальными людьми, это я уже понял. А с кем мне в таком случае можно иметь дело?
– Со всеми остальными. С мужчинами, которые не стремятся к первенству, с женщинами, которые не озабочены поисками любви. С ангелами и с чудовищами, с монстрами и святыми – хотя, на первый взгляд, они, возможно, ничем не отличаются от прочих… Околачивайся поближе к людям, которым чуждо хоть что-нибудь человеческое. К тем, кто действительно имеет значение, и к тем, кто не имеет значения вовсе. Научись узнавать их в толпе, наловчись подбирать к ним ключи, поищи в своем сердце сокровища, которыми их можно соблазнить. Это непросто, но дело того стоит. Именно они бросают кости в твоей игре – даже в тех случаях, когда ты уверен, что событиями движет твоя собственная рука…
– Ты меня напугала, – честно признался я. – Грустно это все. Мне бы хотелось думать, что ты просто морочишь мне голову, но… я откуда-то знаю, что не морочишь. И от этого жутко делается.
– Ну, может быть, жутко, – ее руки взлетели к вискам, пальцы погрузились в лисий шелк шевелюры, губы дрогнули в мечтательной улыбке. – Но на самом-то деле я говорю тебе прекрасные вещи. Я тебе даже завидую, откровенно говоря. Я бы с радостью поменялась с тобой судьбами; я бы украла твою жизнь, не раздумывая, но я не умею. Древнее это искусство, кажется, утрачено безвозвратно… Очень может быть, что тебе предстоит несколько нелегких дней или даже лет, это правда. Ты не захочешь, да и не сможешь принять свою судьбу, и будешь бегать: от нее, от себя, от моих предсказаний и от собственных предчувствий. Но даже эта дурацкая беготня – чудесное занятие, и мне искренне жаль, что я не смогу к тебе присоединиться.
– А почему? – печально спросил я, и сам оторопел от собственного вопроса, а еще больше – от невесть откуда взявшейся печали. В этот момент не было на земле существа, более близкого мне, чем эта странная рыжая женщина с непростым характером и нелепой профессией. Впрочем, сейчас, кроме нас двоих, вообще никого на земле не было, в этом, наверное, все дело.
– Ну… так уж сложилось, – неопределенно объяснила Олла. – Я пока не могу покинуть этот город, а ты не сможешь тут оставаться… Впрочем, сам увидишь, как все сложится. Тебе скорее понравится, чем нет, я так думаю.
– Не расскажешь подробнее?
– Не расскажу. Зато открою тебе еще одно правило твоей игры. Скоро, совсем скоро ты сам сможешь ответить на все вопросы: свои, чужие, чьи угодно. Если захочешь, ты станешь прекрасным оракулом, только не вздумай следовать традиционным ритуалам: они для тебя губительны. Будь внимателен, и весь мир станет твоей гадальной колодой. Трещины на асфальте и ветви деревьев будут принимать форму рун – ты только научись их читать. Книга, открытая наугад, будет содержать ответ на любой твой вопрос; птицы всегда укажут тебе верное направление, а из номеров проезжающих мимо тебя автомобилей сложатся формулы, расшифровав которые, ты не только свинец, но и кошачий помет превратишь в золото. Если захочешь заниматься такой ерундой, конечно.
– Даже так? – лепечу, едва разлепив пересохшие вдруг губы. Я сбит с толку, выбит из колеи, сижу дурак дураком. У меня была такая хорошая «своя тарелка», а меня оттуда насильственно извлекли. Олла наматывает меня на вилку, как некую причудливую макаронину. Есть, правда, вроде бы не собирается – и на том спасибо.
За окном пронзительно каркнула ворона, словно бы подавая сигнал затаившемуся в ожидании подходящего момента невидимому оркестру урбанистической культуры. Где-то рядом, возможно, в соседней квартире, звонко залаяла собака, откуда-то издалека тут же откликнулась ее басовитая товарка. Взвыл автобус, ударилось об асфальт стекло, вместилище живительной влаги (предсмертный звон бьющейся бутылки ни с чем не спутаешь), печально, с бессильной старческой хрипотцой заматерилась жертва прискорбных обстоятельств. Взвыла сирена скорой помощи, заржали подростки; визгливое сопрано зазывало домой какого-то Шуру – не то конопатого дошкольника, не то сорокалетнего алкаша, сразу ведь не разберешь. Инструменты оркестра звучали слаженно, городская симфония еще никогда не представлялась мне столь продуманным, гармоничным и завершенным произведением. Но насладиться ею в полном объеме мне не довелось.
– Все, твое время вышло, – объявила Олла. – Тебе пора домой. Наталью не буди, пусть еще у меня погостит. В любом случае, вам не по дороге.
– Да нет, по дороге, если ехать на сто сорок третьем автобусе, просто ей выходить на пять остановок раньше… впрочем, мы все равно кофе пить собирались в центре.
– Мало ли что вы собирались… И при чем тут какой-то автобус? «Не по пути» – это значит, что не тебе ее будить. Не твоего это ума дело, Макс. Тебе сейчас нужно не в кофейню, а домой. Запереться там от всех друзей-приятелей, распутать нитку и сжечь ее. А потом – прожить ночь, которая наступит. Все, что случится с тобой между моим подъездом и завтрашним рассветом, – очень важно. Это – карта. Это твое главное дело сейчас.
– Ничего не понимаю. Какая карта? Это метафора? – я жаждал развернутых пояснений, но она подняла меня со стула и чуть не насильно подталкивала к выходу.
– Метафора, не метафора… Тут и понимать-то нечего. Просто распутай нитку, сожги ее и доживи до рассвета. Проживи эту ночь с широко открытыми глазами. Действуй по обстоятельствам, смотри по сторонам, запоминай, мотай на ус. Больше ничего от тебя не требуется.
– А я могу еще раз зайти к тебе? Завтра, или в четверг, или когда скажешь…
– Может быть, и можешь. Но вряд ли захочешь. Не до меня тебе будет в ближайшее время.
– Все так ужасно?
– Наоборот. Изумительно. У тебя все будет в порядке, – шепнула Олла, открывая мне дверь. – Лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать. Много лучше. Это тоже правило твоей игры. Последнее на сегодня.
11. Акахада-но усаги
Шестьдесят шесть ступенек вниз – я считал их, словно бы творил некое спасительное заклинание. Распахнув дверь подъезда, вознес безмолвную, но прочувствованную молитву неведомым милосердным богам: городской пейзаж был скуден, скучен и неизменен; асфальт под ногами – щербат, но упоительно тверд; небо над головой – легкомысленная сатиновая синь, этакие необъятные «семейные» трусы божества, как и положено нормальному майскому небу. Мир уцелел. Я, кажется, тоже.
Ехать домой не хотелось. То есть ехать хотелось, но не домой, а просто ОТСЮДА, из этого стремного места, где хрущевские пятиэтажки имеют обыкновение становиться призраками небоскребов, а изящные рыженькие женщины обладают скверными манерами и тяжелым характером древних пророков. Мне требовалось немедленно оказаться где-нибудь в центре города, где шумно, людно, суетно; где на любом углу на одну чужую рожу приходится полтора десятка смутно знакомых рыл. Пусть берут меня под руки, ведут куда-нибудь и врачуют своими милыми повседневными глупостями, потому что…
Я и себе-то не мог толком объяснить, что именно со мной не в порядке. Просто во всем происходящем мне теперь чудилась некая недостоверность. Небо было расположено то ли слишком близко к земле, то ли чересчур высоко; автомобили и автобусы ехали по шоссе то ли необычайно быстро, то ли, напротив, непривычно медленно; прохладный морской ветер проникал не только под одежду, но, кажется, под самую кожу, отчего мышечная мякоть зябко содрогалась, а кончики пальцев твердели и теряли чувствительность – это на весеннем-то солнце! Прохожие… С прохожими была какая-то отдельная беда: они словно бы не видели меня, а если подходили слишком близко – поспешно отводили глаза и огибали мою замершую на перекрестке тушку по какой-то слишком уж крутой дуге. Возможно, впрочем, мне это только мерещилось, но впечатление складывалось тягостное. Я и прежде не раз охотно именовал себя «ссыльным инопланетянином», но это была всего лишь поза, умозрительная картинка, нарисованная для ублажения собственного честолюбия («я не такой, как все» – о-о-о-о-о, круто, круто!). А вот сейчас я впервые почувствовал себя чужеродным предметом в мире людей, причудливой унылой кляксой на жизнерадостном предвечернем фоне южного города. И ощущение это оказалось скорее малоприятным телесным переживанием, чем сладостным плодом умственного усилия. Я испытывал легкую, но изматывающую дурноту. Нет, меня не тошнило от окружающего мира, но я явственно чувствовал, что мир тошнит от меня. Я был куском непереваренной органики – только-то. И библейско-достоевская цитата: изблюю тебя из уст моих, – казалась удивительно актуальной.
От этого морока, как я тогда полагал, существовал лишь один рецепт: быстренько добраться до центра, отыскать там теплую компанию друзей-приятелей, как следует выпить (хоть и не люблю я напиваться, но сегодня – сегодня сам бог велел!). Подвернется коробок травы – еще лучше. Но никаких галлюциногенов: их мой организм, кажется, начал вырабатывать самостоятельно… Оглушить себя, довести до ручки, притупить ощущения, усыпить разум; хорошо бы еще привести домой женщину, все равно кого, лишь бы без особых проблем. Чтобы осталась до утра, потому что сегодня я буду бояться темноты…
У меня была слабая надежда, что после столь интенсивного терапевтического курса я проснусь как новенький. С квадратной головой, конечно, не без того, но морок уйдет. И это главное.
Я так стремился к исцелению, что решил взять такси. Это, конечно, была чистой воды дурь: деньги у меня в последнее время появлялись редко, помалу и без гарантии новых поступлений. Одна поездка в такси – это два дня умеренно сытой жизни. Или один день, но суперсытой. Или три похода в кофейню. Или полкутежа. Или много хорошей пленки для фотоаппарата, или треть платы за электричество, каковое мне уже не раз грозились отключить за долги, или… В общем, я не мог позволить себе тратить деньги на такси. Но сейчас это не имело значения. Поездка на такси займет десять минут, а на автобусе, огородами, да со всеми остановками – сорок, не меньше. И ждать его еще придется – хорошо если полчаса, а то ведь и до ночи, если не до следующей реинкарнации.
Синяя «копейка» затормозила сразу же, стоило руку поднять. Я возликовал и вежливо осведомился у пожилого усатого мужика, подвезет ли он меня к театру на улице Леннона (центральную улицу города, названную в честь первой русской мумии, пока не спешили переименовывать, и черт с нею: еще два поколения назад городская молодежь наловчилась должным образом комкать ульяновское погонялово; традицию постепенно усвоили даже те горожане, чьи музыкальные пристрастия ограничивались Пугачевой да Джо Дассеном). Дядечка флегматично кивнул, не стал даже цену поездки назначать заранее, оставляя сей животрепещущий вопрос на мое усмотрение. Словно догадывался, что в таких случаях я плачу чуть больше, чем положено.
Курить в машине мне великодушно разрешили; самое же удивительное, что в салоне имелся кассетный магнитофон – не встроенная магнитола, конечно, тогда такая роскошь была редкостью – просто лежала на заднем сидении маленькая переносная «сонька» и сипло насвистывала некий приятственный джазец. Я расслабился. Курил, слушал музыку, гадал, кто из приятелей встретится мне сейчас первым и хватит ли заначенной в нагрудном кармане пятерки для овеществления запланированного загула; на все формы размышлений о давешнем визите к гадалке был наложен строжайший запрет. Я умею держать себя в узде, если очень припрет.
Релаксация моя достигла неописуемых высот, когда водитель остановил машину. Я полез в карман за деньгами. К моему изумлению, он буркнул: «Не надо, мне по дороге было», – неслыханное событие для новой, только-только наступившей, эпохи всеобщей экономической неприкаянности. Я так растерялся, что, кажется, даже поблагодарить забыл усатого своего благодетеля. Вылез из машины чуть не в полуобморочном состоянии: скорее, скорее, пока ангелы-хранители мои не опомнились и не вразумили этого блаженного.
Когда я понял, что меня высадили вовсе не напротив театра драмы на Ленина-Леннона, а на углу улицы Шевченко и проспекта Мира, точнехонько у моего подъезда, синей «копейки» и след простыл.
– Ну, дела… – жалобно сказал я сам себе. – Я же его просил… Адрес-то мой как он угадал, а?
Ответа, разумеется, не последовало. Небеса не разверзлись, дабы отправить мне огненный факс с пояснениями, да и лукавый Мефистофель не тявкнул из-за угла черным пуделем. Напрасно, кстати: я бы сейчас охотно уступил ему свои Ка, Ба, Ах и прочие метафизические кишки, если бы в пакет дьявольских предложений входил полный набор четких и ясных ответов на все мои вопросы. Однако Фауста из меня не получилось.
По всему выходило, что мне следует идти домой и выполнять нехитрую инструкцию суровой Оллы-Хельги. Знак судьбы и все такое… Ага, как же!
Когда я понимаю, что меня к чему-то принуждают, я теряю разум. В таких случаях я упрям как осел и не способен трезво оценить ситуацию. Я буду стоять насмерть за право поступить по-своему, даже если в глубине души знаю, что затеял глупость. Я и летать-то, вероятно, до сих пор не научился потому лишь, что никто никогда не запрещал мне летать. Попробовали бы!
Поэтому я пожал плечами, сунул руки в карманы и зашагал прочь. От моего дома до пресловутой улицы имени мумии и музыканта всего-то минут пятнадцать пешком. А если быстро идти, то и вовсе десять. А если очень быстро…