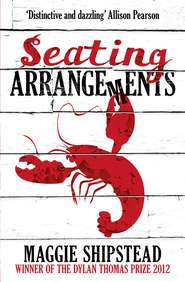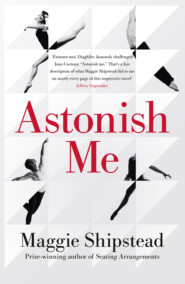По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Большой круг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нормально? Это то, что ты хотел? – спросил Уоллес.
– Я ничего не хотел много лет, – ответил Эддисон. – А потом захотелось поплавать.
* * *
Все девять с лишним лет, проведенных в Синг-Синге, Эддисон очень мало спал. Его пристанище, три на семь футов, из известняка, добытого давным-давно умершими заключенными, стало могилой, где после отбоя он лежал без движения, без сна, слушая храп, бормотание и мастурбирующие ритмы восьмисот мужчин, набитых по шестеро в одинаковые камеры. На корабле он спал всегда, как бы ни бушевало море или была неудобна постель. В тюрьме постоянное бодрствование сознания казалось особенно суровым видом наказания, назначенным не судом, а его душой.
Он не уснул и во флигеле, не измял на узкой кровати белые простыни и сине-белое лоскутное одеяло, сшитое знаменитой Берит. В комнате Грейвз нашел ящики и коробки. Уоллес сказал брату, что они принадлежат ему, прибыли морем пару лет спустя после того, как его законопатили в Синг-Синг. На наклейках было указано имя Честера Файна. Задернув занавески, Эддисон вскрыл наугад один ящик. Книги – его книги – из нью-йоркского дома. В остальных сувениры, собранные в плаваниях: маски, деревянные статуэтки, рога, плетенки, черепаший панцирь, поднос из Бразилии с крылышками бабочек под стеклом, выложенными радужными кругами. В других Эддисон нашел аккуратно обернутые и упакованные работы Уоллеса нью-йоркской поры, которые тот оставил ему в качестве арендной платы. Корабли в порту. Шумные улицы. Гудзон. Дом красного кирпича.
Обвинение признало: выжив, капитан Грейвз, строго говоря, не нарушил закона. Однако указало: Международная конвенция по охране человеческой жизни на море требует от капитана оставаться на борту, пока в безопасности не окажутся все пассажиры, в противном случае он виновен в преступной халатности. Более того, Грейвз размахивал смертельным оружием, препятствуя пассажирам, даже женщинам, занять место в лодке, что можно квалифицировать как убийство при смягчающих обстоятельствах. Погибли пятьсот два пассажира и члена экипажа – сгорели, утонули или умерли от переохлаждения в спасательных жилетах. Основная версия заключалась в том, что от тлеющего в бункере огня загорелся угольный мусор, бывший повсюду под палубами, по этой причине взорвался один из котлов, после чего разнесло правую часть корпуса судна.
Капитан Грейвз, возражал Честер Файн, в худшем случае занял одно место в лодке, но у него на руках были дети-близнецы, сын и дочь. Кто осудит человека за спасение собственных детей?
Так кто же, задавалось вопросом обвинение, несет ответственность за взрыв? Кто ответствен за дееспособность экипажа? За безопасность, невредимость корабля? Кто?
Я один, говорил Эддисон Честеру Файну, умоляя его полностью признать вину и не торговаться о мере искупления. Но Честер с невозмутимой решительностью мольбы игнорировал. Плевать на бушующие в обществе страсти, улягутся. Когда-нибудь, твердил он, Эддисон пожалеет о том, что выбрал путь мученичества. Зачем тогда было спасать близнецов? Чтобы опять их бросить? В итоге единогласное решение: виновен в непредумышленном убийстве. Десять лет на берегу Гудзона.
И Эддисон, испытывая нечто вроде облегчения, пропал в Синг-Синге.
Уоллес прислал студийную фотографию с первого дня рождения близнецов: двое детей в белых платьицах важно сидят в вольтеровском кресле с аккуратно причесанными, слабыми бледными волосами. Присылал и портретные рисунки, тронутые акварелью. Эддисон так и не пришел к определенному выводу, кто из близнецов кто, а спрашивать считал идиотизмом. Каждый год в их день рождения он получал по фотографии, и постепенно младенцы превратились в длинноногих детей с невероятно светлыми волосами. Мэриен, с недоверчивым взглядом и слабой, упрямой улыбкой, имела некоторое сходство с Аннабел, что, в сочетании с рассказами Уоллеса о ее своенравии, беспокоило Эддисона. Джейми лучился искренней нежностью.
Где-то глубоко, в потемках души Грейвз считал, что, если бы не взял Аннабел и близнецов на борт «Джозефины», взрыва не было бы, хотя по большому счету практически не сомневался: виной тому стали ящики Ллойда. Или он сам, поскольку не добился ответа на вопрос об их содержимом, поскольку позволил Ллойду махнуть рукой: дескать, слишком сложно заносить в декларацию.
Когда ночь побледнела до олова, Эддисон на пару дюймов раздернул занавески. Звезды одна за другой уходили со сцены, изящно, даже торжественно, и накатило воспоминание: рассвет на «Джозефине», отдельные замешкавшиеся пассажиры в вечерних нарядах, еще на палубе или бегут по коридорам, падая, спотыкаясь, сверкая. Он чувствовал, как палуба ходит у него под ногами. Слышал запах океана.
Нет, это запах запруды, не океана. В волосах, на коже. Глина, не соль.
Когда свет стал лавандовым, с веранды вынырнули две маленькие фигурки, за ними выскочили три собаки. Близнецы были в одинаковых синих пижамах и, если не считать длинные волосы Мэриен, почти неразличимы – белокурость, худоба. Они посмотрели в сторону флигеля, как пугливые косули. Эддисон стоял неподвижно. Через минуту Джейми отвернулся, повозился с пижамой и выпустил дугу мочи. Мэриен отошла в другую сторону, опустила штанишки и присела в траву. Собаки покрутились, понюхали и, задрав лапы, последовали их примеру. Управившись, все двинулись к конюшне.
Мотор в груди Эддисона приводил в движение поршни в конечностях. По настоянию Уоллеса ночью, заглянув на веранду, он увидел на подушках бледные головы и, нахмурив лоб, кивнул, как человек, которому показали нечто непревзойденное, чем надо бы восхищаться, но что только смущает.
Эддисон как можно незаметнее перешел к другому окну. Мэриен в пижаме уже сидела без седла на лошади чалой масти, держа вожжи, а Джейми, вскарабкавшись на ограду загона, перебрался оттуда на лошадь и устроился позади нее, свесив голые ноги. Они свернули к реке и исчезли, бока лошади еще какое-то время мелькали между деревьями, собаки семенили следом.
Эддисон никогда точно не знал, верить ли в свое отцовство, но ему не хотелось оскорблять Аннабел. Теперь он поверил. Увидел по рукам, ногам, по форме стоп, а также менее осязаемому признаку – по тому, как организовывался вокруг детей утренний воздух. А еще он считал – был твердо убежден, – что ему нечего им предложить. Ему никогда не понять, что им говорить, как быть отцом, дарить тепло. Он может лишь огорчать и причинять боль.
Во дворе стояла тишина. Грейвз умылся в тазике, выскользнул из флигеля и быстро зашагал обратно той же дорогой, которой привез его сюда Уоллес. В кармане лежало меньше трех долларов, но кое-что хранилось в нью-йоркском банке. Не бог весть что, но пока хватит.
Вскоре после восхода солнца он сел на поезд и поехал на запад.
Лос-Анджелес, 2014 год
ПЕРВОЕ
Если бы не история с Джонсом Коэном, мне бы не досталась роль Мэриен Грейвз. Хотя тогда я этого не понимала. Только в груди – я четко ощущала – давило что-то тугое, как будто хотелось растоптать чей-то песочный замок. В детстве со мной часто такое бывало. На съемочной площадке хотелось разбуяниться, разгромить пластмассовую конюшню с пластмассовым пони на пластмассовые кусочки, но я никогда не позволяла себе ничего подобного, пока не стала старше, пока не превратилась в Кейти Макги и не стала гонять по 405-му шоссе на заднем сиденье чьих-то «Рендж Роверов» со скоростью сто десять миль в час. Я только хохотала и визжала, но испытывала ощущение, будто что-то ломаю.
В общем, не знаю, почему я поехала с Джонсом. В тот момент я бы ответила: захотелось, однако мне не хотелось, по-настоящему нет. Было скучно, тревожно, грустно. Ну и что? Не это заставило меня взять Джонса за руку и выйти на свет. Я устала от яркого света, но, разумеется, благодаря своему фортелю лишь еще больше подставилась под него.
Воспоминания обрывочны. Помню, сидела с Джонсом в клубе, в отгороженной маленькой нише для випов, на причудливом двухместном диванчике траурного, викторианского вида с высокой черной спинкой, загибающейся над нами крылом какого-то жука. Помню татуировку Джонни Кэша у него на предплечье, его кожаные манжеты и бирюзовые кольца. Источники утверждали: мы «уютно устроились» и «флиртовали», я «соблазняла» и «чего только не вытворяла» с «известным бабником», но не помню, я предложила уйти или он. Не помню точно, что я несла, но точно дразнила его, выпытывая подробности о знаменитых женщинах, с которыми он спал. Я была серьезна, потом шаловлива, потом нежна и ранима. Смутно помню, как он рассказывал мне, что свой следующий альбом «обкромсает по самые помидоры» – только он и гитара. А я сказала «потрясающе», «в десятку» и я типа за, поскольку Джонс хоть и мудак, но действительно великий гитарист. Помню, когда мы проходили мимо призрачного гардеробщика, присматривающего в освещенной красным пещере за ненужными в Лос-Анджелесе пальто, я поскользнулась на гладком полу, ненадежная туфля поехала вбок. Наверное, тогда я и взяла Джонса за руку. Хозяйка пожелала нам приятного вечера – миловидная, изголодавшаяся девушка, бросившая на меня плотоядный взгляд, – дверь открылась, и ночь взорвалась. Даже пьяная – все вокруг шаталось и вертелось, – я знала, что они ждут, что мое лежбище усеяно их дурацкими шляпами «Кэнгол» и черными кожаными шмотками, что они бдят, а в ожидании курят и ведут идиотские разговоры, что их мотоциклами и «веспами» забит весь квартал. Дверь открылась, и тут же появились длинные черные морды их фотоаппаратов. Защелкали затворы, заблестели вспышки. Они все напирали, пока я чуть не задохнулась от света. Парни Джонса отпихнули их назад, освободив для нас проход к машине.
– Хэдли! Джонс! Вы вместе? Хэдли, а где Оливер? Вы расстались?
На фото у меня слишком короткое платье. Я, осоловелая, с бесстыжим взглядом и полуулыбкой, цепляюсь за руку Джонса. Ну хоть, садясь в машину, удержала ноги вместе.
Они торжествующей толпой ехали за нами до дома Джонса, летели, взрываясь белым светом в моем окне, даже затемненном молочно-черным глянцем японской эмали. В машине, помню, Джонс языком играл моей серьгой, протягивая крючок через мочку, пока наконец хлипкая мешанина бриллиантов не повисла у него на улыбке – известный трюк на вечеринках, вроде как завязать узлом плодоножку вишни. Помню его дом, похожий на пещеру, с непременными огромными абстрактными картинами, все остальное белое, как небо в анекдоте про небо. Помню татуировку высоко на внутренней стороне бедра, настоятельный призыв крошечными буквами: «Люби меня».
Когда мы встретились на пробах к первому «Архангелу», Оливер был женат. Ему стукнуло двадцать, а его жене – сорок два, она являлась театральным директором из Лондона, рассекала в сапогах с заклепками и асимметричных пиджаках авангардных японских дизайнеров, благородная, как римский сенатор. Он не ушел от нее ко мне. Он вообще от нее не ушел. По словам Оливера, после их второй годовщины она заявила: ее страсть к нему лопнула, как сильно надутый шарик, уничтожив самое себя.
Я ничего не знала про свет, толком не знала, пока мы с Оливером впервые не появились на публике, взявшись за руки. Это было на премьере второго сезона. Мы тайком спали уже три месяца, но жутко страдали от шпионского всевластия и опровержения слухов. Он первым вышел из машины, и тысячи полоумных сучек за ограждением завопили, как будто их жгли живьем. Когда он обернулся, протянул мне руку и потом не отпустил ее, меня опалили грохот и свет. Я решила, будто сейчас испарюсь и ничего от меня не останется, кроме сгоревшей тени на красной дорожке. На фотографиях я пялюсь в объективы, как военный преступник перед трибуналом. Оливер улыбается, машет рукой. Свет – передатчик его красоты. В жизни он слишком красив, в кино его будто парализует. В пространстве же между прожектором и экраном он преобразуется в такое, на что почти нестерпимо смотреть.
Вообще-то звуки и свет на красной дорожке предназначались не совсем для нас. Благодаря нашей связи история показалась настоящей, а полоумные сучки так хотели настоящей истории, что совсем потеряли рассудок. Наиболее радикальную секту отступников составили авторы экстремального эротического фанфика. Они бродили по туннелям интернета, выкапывая лабиринты, где могли откладывать свои желания и выкармливать их, как личинки.
Они крушили все ради себя и даже этого не знали. Не втыкались, что им не понравятся книги, которые дадут именно то, чего они хотят. Люди любят истории, оставляющие некое разочарование, не дающие полного удовлетворения. А сучки хотели, чтобы «Архангел» был скроен по их самым тайным прихотям, но в то же время чтобы до него никто не дотрагивался. Когда мы меняли в фильме какую-нибудь мелочь, они тут же выходили на связь. «Дом Лизвет небесно-голубой, а не сине-зеленый, бараны». Или: «Когда Гэбриел и Катерина целуются в первый раз, на нем шапка белого медведя, но не СЕРАЯ, а БЕЛАЯ, и вы должны это ЗНАТЬ, потому что так В КНИГЕ».
Мы с Оливером, конечно, тоже были ненасытны. Наши герои жили в нас. Мы думали, что сможем, как на восходящих потоках, воспарить на всех сыгранных нами томлениях и страстях. Сойдясь, мы чувствовали себя щедрыми, будто имели некие обязательства перед историей, рассказываемой в фильме, и исполняли их. Но полоумные сучки писали и о нас. О нас, людях, Хэдли Бэкстер и Оливере Трэпмене, лос-анджелесских актерах, а не о Катерине и Гэбриеле, порожденных воображением Гвендолин и живущих в несуществующем царстве Архангела.
Как-то мы решили прочесть фанфик про себя, просто из любопытства. Сначала смеялись над опечатками, потом затихли. Пока мы читали липко-потную фантазию о том, как трахнулись в первый раз, я сидела у Оливера на коленях. «Я хочу только тебя», – сказал мне Оливер в той истории, как Гэбриел говорит Катерине тысячу раз. «Навсегда». Но затем движением, которое шокировало бы милого вежливого Гэбриела, Оливер из фанфика задрал «дорогое платье от дизайнера» и всунул мне свой «пульсирующий член». «Давай, – стонала Хэдли. – О да. Ты такой пылкий, такой знаменитый, и я очень-очень тебя любю».
Оливер закрыл компьютер. За окном появилась колибри, привлеченная утренним светом, разгоравшимся на стене моего дома. Она зависла и пристально на нас посмотрела, радужная грудка замерла в пространстве, крылышки от скорости почти невидимы. Мы находились на оживленном перекрестке, где пересекались реальности. Чувствовали небесный ветер.
«Я очень тебя любю», – начали мы говорить друг другу.
«Мы» надежнее, чем «я», когда ты там, внутри, но это такая неустойчивая, непрочная штука, в любой момент готовая тебя отшвырнуть и в конечном счете бросить на милость «я». Став «мы», ты становишься и «они», мишенью, которую надо отследить и сфоткать. Наградой. Каменоломней, то есть тем, что надо сторожить. А еще шахтой. Нас вдвоем отслеживали и фоткали в Нью-Йорке, Париже, Санкт-Петербурге, Кабо, Кауаи, на яхте недалеко от Ибицы, на вечеринках после катания на лыжах в Гштаде, в продуктовом магазине, на заправке, с похмелья в бургерной «Умами». Они бурили нас на предмет рассказов, пикантных подробностей, правды и лжи, лжи и правды, вопросов моды, вопросов фитнеса, диеты, укладки волос, отношений, ну давай же, про детей, просто что-нибудь. Они оценивали наш прикид, ставили очки нашим фигурам на пляже, заявляли, что я беременна близнецами, что – пардон, уточняю – я хочу забеременеть близнецами, что я нахожусь в центре реабилитации, что мы помолвлены, что наша помолвка расторгнута. Они хотели знать, что у меня в сумочке, в туалете, в списке необходимой парфюмерии и косметики. Они сдирали с нас слой за слоем и превратили во что-то совсем уже выпотрошенное и пустое.
Выходя с Джонсом из клуба, я, кажется, хотела сделать больно именно полоумным сучкам. В пьяном величии мне представлялось, что я в силах сокрушить их миры. Но, как предсказал бы любой болван, сучки перенесли травму очень легко. Я, разумеется, разбомбила собственный песочный замок, вытоптав его в миленький такой жесткий, плоский, пустой пляж.
Слоган первого фильма был «Раз полюбил, это навсегда». Четвертого, моего последнего, – «Раз упал, это навсегда». На постере отфотошопленный мрачный Оливер и отфотошопленная пухлогубая я наложены на красивый, но жутковатый цифровой город, силуэт которого из куполов цвета золотистого лука припорошен снегом. Каким будет слоган шестого фильма? Десятого? «Раз помер, это, ради бога, навсегда»?
Гвендолин все пишет. На данный момент вышло семь книг. Но даже до того, как меня вышвырнули, мы с Оливером старели быстрее, чем наши герои. Мы не могли быть ими вечно. Точнее, я не могла оставаться Катериной. Всем прекрасно известно: мужчины не стареют, по крайней мере стареют не так, что это имеет значение. Сейчас они снимают пятый. Девчонка, заменившая меня, – подросток.
Гадость в том, что первый раз мы с Оливером действительно трахнулись в машине. Но не на премьере, а после вручения премии детской аудитории. Первый фильм «Архангела» получил все возможные детские награды. Существует ли ложь больше той, что «я хочу только тебя»? Или «навсегда»? Кто первым сказал, что ничто не длится всегда? Кто первым заметил?
ВТОРОЕ
Наутро, после того как я уехала с Джонсом, из моего дома убралась команда Оливера. Мои телохранитель и помощница рассказали, что ночью, когда в сети появились первые фотографии, пришли его телохранитель и помощник и все собрали. Уже через пять минут после моего прихода моя агент Шивон позвонила разведать ситуацию и вежливо поинтересоваться, чем я думала. После обеда она перезвонила сообщить неполный список недовольных. Ее присутствие в списке подразумевалось само собой, хотя она и не орала, как могла на первых порах, когда мы обе теряли самообладание, если мне приспичивало сняться в рекламе миниатюрной пиццы для микроволновки. В прошлом году я заработала тридцать два миллиона, а она получила десять процентов. Если вы так же знамениты, как я, то вас можно сравнить с гигантским, плавно скользящим морским существом, экосистемой в себе, питающей тем, что застревает у вас в зубах, колонию мелкой рыбешки.
Алексей Янг, агент Оливера, с кем я спала дважды, тайком, и, может быть, все еще была в него влюблена, сообщил Шивон, что Оливер пал духом и уничтожен. Шивон передала мне. Недовольство выражала студия в целом и ее глава Гавен Дюпре в частности, которому я один раз отсосала, и не потому что хотела. Недовольство выражали инвесторы, Гвендолин-автор-книг-«Архангела», режиссер четвертого фильма, находившегося в монтаже, а также парень, намеченный на роль режиссера пятого.
– Студия – сказала Шивон, – беспокоится, как бы люди – фанаты – не распереживались. Студия боится, что ты разрушила романтическую иллюзию. Ведь очевидно, весь проект зиждется на идее идеальной любви, и мысль…
– Я правда не виновата, если люди так глупы, что не различают реальность и вымысел, – перебила я.
– Да я-то согласна, теоретически, но полагаю, тут можно возразить, что на всех нас лежит ответственность и мы должны защищать наш бренд. Не возьмусь утверждать, будто ты не отвлекла всеобщее внимание от фильма.
Я промолчала.
– Ты уже говорила с Оливером? – спросила Шивон.
– Нет. Кстати, он тоже мне изменял. Я тебе рассказывала.
– Я ничего не хотел много лет, – ответил Эддисон. – А потом захотелось поплавать.
* * *
Все девять с лишним лет, проведенных в Синг-Синге, Эддисон очень мало спал. Его пристанище, три на семь футов, из известняка, добытого давным-давно умершими заключенными, стало могилой, где после отбоя он лежал без движения, без сна, слушая храп, бормотание и мастурбирующие ритмы восьмисот мужчин, набитых по шестеро в одинаковые камеры. На корабле он спал всегда, как бы ни бушевало море или была неудобна постель. В тюрьме постоянное бодрствование сознания казалось особенно суровым видом наказания, назначенным не судом, а его душой.
Он не уснул и во флигеле, не измял на узкой кровати белые простыни и сине-белое лоскутное одеяло, сшитое знаменитой Берит. В комнате Грейвз нашел ящики и коробки. Уоллес сказал брату, что они принадлежат ему, прибыли морем пару лет спустя после того, как его законопатили в Синг-Синг. На наклейках было указано имя Честера Файна. Задернув занавески, Эддисон вскрыл наугад один ящик. Книги – его книги – из нью-йоркского дома. В остальных сувениры, собранные в плаваниях: маски, деревянные статуэтки, рога, плетенки, черепаший панцирь, поднос из Бразилии с крылышками бабочек под стеклом, выложенными радужными кругами. В других Эддисон нашел аккуратно обернутые и упакованные работы Уоллеса нью-йоркской поры, которые тот оставил ему в качестве арендной платы. Корабли в порту. Шумные улицы. Гудзон. Дом красного кирпича.
Обвинение признало: выжив, капитан Грейвз, строго говоря, не нарушил закона. Однако указало: Международная конвенция по охране человеческой жизни на море требует от капитана оставаться на борту, пока в безопасности не окажутся все пассажиры, в противном случае он виновен в преступной халатности. Более того, Грейвз размахивал смертельным оружием, препятствуя пассажирам, даже женщинам, занять место в лодке, что можно квалифицировать как убийство при смягчающих обстоятельствах. Погибли пятьсот два пассажира и члена экипажа – сгорели, утонули или умерли от переохлаждения в спасательных жилетах. Основная версия заключалась в том, что от тлеющего в бункере огня загорелся угольный мусор, бывший повсюду под палубами, по этой причине взорвался один из котлов, после чего разнесло правую часть корпуса судна.
Капитан Грейвз, возражал Честер Файн, в худшем случае занял одно место в лодке, но у него на руках были дети-близнецы, сын и дочь. Кто осудит человека за спасение собственных детей?
Так кто же, задавалось вопросом обвинение, несет ответственность за взрыв? Кто ответствен за дееспособность экипажа? За безопасность, невредимость корабля? Кто?
Я один, говорил Эддисон Честеру Файну, умоляя его полностью признать вину и не торговаться о мере искупления. Но Честер с невозмутимой решительностью мольбы игнорировал. Плевать на бушующие в обществе страсти, улягутся. Когда-нибудь, твердил он, Эддисон пожалеет о том, что выбрал путь мученичества. Зачем тогда было спасать близнецов? Чтобы опять их бросить? В итоге единогласное решение: виновен в непредумышленном убийстве. Десять лет на берегу Гудзона.
И Эддисон, испытывая нечто вроде облегчения, пропал в Синг-Синге.
Уоллес прислал студийную фотографию с первого дня рождения близнецов: двое детей в белых платьицах важно сидят в вольтеровском кресле с аккуратно причесанными, слабыми бледными волосами. Присылал и портретные рисунки, тронутые акварелью. Эддисон так и не пришел к определенному выводу, кто из близнецов кто, а спрашивать считал идиотизмом. Каждый год в их день рождения он получал по фотографии, и постепенно младенцы превратились в длинноногих детей с невероятно светлыми волосами. Мэриен, с недоверчивым взглядом и слабой, упрямой улыбкой, имела некоторое сходство с Аннабел, что, в сочетании с рассказами Уоллеса о ее своенравии, беспокоило Эддисона. Джейми лучился искренней нежностью.
Где-то глубоко, в потемках души Грейвз считал, что, если бы не взял Аннабел и близнецов на борт «Джозефины», взрыва не было бы, хотя по большому счету практически не сомневался: виной тому стали ящики Ллойда. Или он сам, поскольку не добился ответа на вопрос об их содержимом, поскольку позволил Ллойду махнуть рукой: дескать, слишком сложно заносить в декларацию.
Когда ночь побледнела до олова, Эддисон на пару дюймов раздернул занавески. Звезды одна за другой уходили со сцены, изящно, даже торжественно, и накатило воспоминание: рассвет на «Джозефине», отдельные замешкавшиеся пассажиры в вечерних нарядах, еще на палубе или бегут по коридорам, падая, спотыкаясь, сверкая. Он чувствовал, как палуба ходит у него под ногами. Слышал запах океана.
Нет, это запах запруды, не океана. В волосах, на коже. Глина, не соль.
Когда свет стал лавандовым, с веранды вынырнули две маленькие фигурки, за ними выскочили три собаки. Близнецы были в одинаковых синих пижамах и, если не считать длинные волосы Мэриен, почти неразличимы – белокурость, худоба. Они посмотрели в сторону флигеля, как пугливые косули. Эддисон стоял неподвижно. Через минуту Джейми отвернулся, повозился с пижамой и выпустил дугу мочи. Мэриен отошла в другую сторону, опустила штанишки и присела в траву. Собаки покрутились, понюхали и, задрав лапы, последовали их примеру. Управившись, все двинулись к конюшне.
Мотор в груди Эддисона приводил в движение поршни в конечностях. По настоянию Уоллеса ночью, заглянув на веранду, он увидел на подушках бледные головы и, нахмурив лоб, кивнул, как человек, которому показали нечто непревзойденное, чем надо бы восхищаться, но что только смущает.
Эддисон как можно незаметнее перешел к другому окну. Мэриен в пижаме уже сидела без седла на лошади чалой масти, держа вожжи, а Джейми, вскарабкавшись на ограду загона, перебрался оттуда на лошадь и устроился позади нее, свесив голые ноги. Они свернули к реке и исчезли, бока лошади еще какое-то время мелькали между деревьями, собаки семенили следом.
Эддисон никогда точно не знал, верить ли в свое отцовство, но ему не хотелось оскорблять Аннабел. Теперь он поверил. Увидел по рукам, ногам, по форме стоп, а также менее осязаемому признаку – по тому, как организовывался вокруг детей утренний воздух. А еще он считал – был твердо убежден, – что ему нечего им предложить. Ему никогда не понять, что им говорить, как быть отцом, дарить тепло. Он может лишь огорчать и причинять боль.
Во дворе стояла тишина. Грейвз умылся в тазике, выскользнул из флигеля и быстро зашагал обратно той же дорогой, которой привез его сюда Уоллес. В кармане лежало меньше трех долларов, но кое-что хранилось в нью-йоркском банке. Не бог весть что, но пока хватит.
Вскоре после восхода солнца он сел на поезд и поехал на запад.
Лос-Анджелес, 2014 год
ПЕРВОЕ
Если бы не история с Джонсом Коэном, мне бы не досталась роль Мэриен Грейвз. Хотя тогда я этого не понимала. Только в груди – я четко ощущала – давило что-то тугое, как будто хотелось растоптать чей-то песочный замок. В детстве со мной часто такое бывало. На съемочной площадке хотелось разбуяниться, разгромить пластмассовую конюшню с пластмассовым пони на пластмассовые кусочки, но я никогда не позволяла себе ничего подобного, пока не стала старше, пока не превратилась в Кейти Макги и не стала гонять по 405-му шоссе на заднем сиденье чьих-то «Рендж Роверов» со скоростью сто десять миль в час. Я только хохотала и визжала, но испытывала ощущение, будто что-то ломаю.
В общем, не знаю, почему я поехала с Джонсом. В тот момент я бы ответила: захотелось, однако мне не хотелось, по-настоящему нет. Было скучно, тревожно, грустно. Ну и что? Не это заставило меня взять Джонса за руку и выйти на свет. Я устала от яркого света, но, разумеется, благодаря своему фортелю лишь еще больше подставилась под него.
Воспоминания обрывочны. Помню, сидела с Джонсом в клубе, в отгороженной маленькой нише для випов, на причудливом двухместном диванчике траурного, викторианского вида с высокой черной спинкой, загибающейся над нами крылом какого-то жука. Помню татуировку Джонни Кэша у него на предплечье, его кожаные манжеты и бирюзовые кольца. Источники утверждали: мы «уютно устроились» и «флиртовали», я «соблазняла» и «чего только не вытворяла» с «известным бабником», но не помню, я предложила уйти или он. Не помню точно, что я несла, но точно дразнила его, выпытывая подробности о знаменитых женщинах, с которыми он спал. Я была серьезна, потом шаловлива, потом нежна и ранима. Смутно помню, как он рассказывал мне, что свой следующий альбом «обкромсает по самые помидоры» – только он и гитара. А я сказала «потрясающе», «в десятку» и я типа за, поскольку Джонс хоть и мудак, но действительно великий гитарист. Помню, когда мы проходили мимо призрачного гардеробщика, присматривающего в освещенной красным пещере за ненужными в Лос-Анджелесе пальто, я поскользнулась на гладком полу, ненадежная туфля поехала вбок. Наверное, тогда я и взяла Джонса за руку. Хозяйка пожелала нам приятного вечера – миловидная, изголодавшаяся девушка, бросившая на меня плотоядный взгляд, – дверь открылась, и ночь взорвалась. Даже пьяная – все вокруг шаталось и вертелось, – я знала, что они ждут, что мое лежбище усеяно их дурацкими шляпами «Кэнгол» и черными кожаными шмотками, что они бдят, а в ожидании курят и ведут идиотские разговоры, что их мотоциклами и «веспами» забит весь квартал. Дверь открылась, и тут же появились длинные черные морды их фотоаппаратов. Защелкали затворы, заблестели вспышки. Они все напирали, пока я чуть не задохнулась от света. Парни Джонса отпихнули их назад, освободив для нас проход к машине.
– Хэдли! Джонс! Вы вместе? Хэдли, а где Оливер? Вы расстались?
На фото у меня слишком короткое платье. Я, осоловелая, с бесстыжим взглядом и полуулыбкой, цепляюсь за руку Джонса. Ну хоть, садясь в машину, удержала ноги вместе.
Они торжествующей толпой ехали за нами до дома Джонса, летели, взрываясь белым светом в моем окне, даже затемненном молочно-черным глянцем японской эмали. В машине, помню, Джонс языком играл моей серьгой, протягивая крючок через мочку, пока наконец хлипкая мешанина бриллиантов не повисла у него на улыбке – известный трюк на вечеринках, вроде как завязать узлом плодоножку вишни. Помню его дом, похожий на пещеру, с непременными огромными абстрактными картинами, все остальное белое, как небо в анекдоте про небо. Помню татуировку высоко на внутренней стороне бедра, настоятельный призыв крошечными буквами: «Люби меня».
Когда мы встретились на пробах к первому «Архангелу», Оливер был женат. Ему стукнуло двадцать, а его жене – сорок два, она являлась театральным директором из Лондона, рассекала в сапогах с заклепками и асимметричных пиджаках авангардных японских дизайнеров, благородная, как римский сенатор. Он не ушел от нее ко мне. Он вообще от нее не ушел. По словам Оливера, после их второй годовщины она заявила: ее страсть к нему лопнула, как сильно надутый шарик, уничтожив самое себя.
Я ничего не знала про свет, толком не знала, пока мы с Оливером впервые не появились на публике, взявшись за руки. Это было на премьере второго сезона. Мы тайком спали уже три месяца, но жутко страдали от шпионского всевластия и опровержения слухов. Он первым вышел из машины, и тысячи полоумных сучек за ограждением завопили, как будто их жгли живьем. Когда он обернулся, протянул мне руку и потом не отпустил ее, меня опалили грохот и свет. Я решила, будто сейчас испарюсь и ничего от меня не останется, кроме сгоревшей тени на красной дорожке. На фотографиях я пялюсь в объективы, как военный преступник перед трибуналом. Оливер улыбается, машет рукой. Свет – передатчик его красоты. В жизни он слишком красив, в кино его будто парализует. В пространстве же между прожектором и экраном он преобразуется в такое, на что почти нестерпимо смотреть.
Вообще-то звуки и свет на красной дорожке предназначались не совсем для нас. Благодаря нашей связи история показалась настоящей, а полоумные сучки так хотели настоящей истории, что совсем потеряли рассудок. Наиболее радикальную секту отступников составили авторы экстремального эротического фанфика. Они бродили по туннелям интернета, выкапывая лабиринты, где могли откладывать свои желания и выкармливать их, как личинки.
Они крушили все ради себя и даже этого не знали. Не втыкались, что им не понравятся книги, которые дадут именно то, чего они хотят. Люди любят истории, оставляющие некое разочарование, не дающие полного удовлетворения. А сучки хотели, чтобы «Архангел» был скроен по их самым тайным прихотям, но в то же время чтобы до него никто не дотрагивался. Когда мы меняли в фильме какую-нибудь мелочь, они тут же выходили на связь. «Дом Лизвет небесно-голубой, а не сине-зеленый, бараны». Или: «Когда Гэбриел и Катерина целуются в первый раз, на нем шапка белого медведя, но не СЕРАЯ, а БЕЛАЯ, и вы должны это ЗНАТЬ, потому что так В КНИГЕ».
Мы с Оливером, конечно, тоже были ненасытны. Наши герои жили в нас. Мы думали, что сможем, как на восходящих потоках, воспарить на всех сыгранных нами томлениях и страстях. Сойдясь, мы чувствовали себя щедрыми, будто имели некие обязательства перед историей, рассказываемой в фильме, и исполняли их. Но полоумные сучки писали и о нас. О нас, людях, Хэдли Бэкстер и Оливере Трэпмене, лос-анджелесских актерах, а не о Катерине и Гэбриеле, порожденных воображением Гвендолин и живущих в несуществующем царстве Архангела.
Как-то мы решили прочесть фанфик про себя, просто из любопытства. Сначала смеялись над опечатками, потом затихли. Пока мы читали липко-потную фантазию о том, как трахнулись в первый раз, я сидела у Оливера на коленях. «Я хочу только тебя», – сказал мне Оливер в той истории, как Гэбриел говорит Катерине тысячу раз. «Навсегда». Но затем движением, которое шокировало бы милого вежливого Гэбриела, Оливер из фанфика задрал «дорогое платье от дизайнера» и всунул мне свой «пульсирующий член». «Давай, – стонала Хэдли. – О да. Ты такой пылкий, такой знаменитый, и я очень-очень тебя любю».
Оливер закрыл компьютер. За окном появилась колибри, привлеченная утренним светом, разгоравшимся на стене моего дома. Она зависла и пристально на нас посмотрела, радужная грудка замерла в пространстве, крылышки от скорости почти невидимы. Мы находились на оживленном перекрестке, где пересекались реальности. Чувствовали небесный ветер.
«Я очень тебя любю», – начали мы говорить друг другу.
«Мы» надежнее, чем «я», когда ты там, внутри, но это такая неустойчивая, непрочная штука, в любой момент готовая тебя отшвырнуть и в конечном счете бросить на милость «я». Став «мы», ты становишься и «они», мишенью, которую надо отследить и сфоткать. Наградой. Каменоломней, то есть тем, что надо сторожить. А еще шахтой. Нас вдвоем отслеживали и фоткали в Нью-Йорке, Париже, Санкт-Петербурге, Кабо, Кауаи, на яхте недалеко от Ибицы, на вечеринках после катания на лыжах в Гштаде, в продуктовом магазине, на заправке, с похмелья в бургерной «Умами». Они бурили нас на предмет рассказов, пикантных подробностей, правды и лжи, лжи и правды, вопросов моды, вопросов фитнеса, диеты, укладки волос, отношений, ну давай же, про детей, просто что-нибудь. Они оценивали наш прикид, ставили очки нашим фигурам на пляже, заявляли, что я беременна близнецами, что – пардон, уточняю – я хочу забеременеть близнецами, что я нахожусь в центре реабилитации, что мы помолвлены, что наша помолвка расторгнута. Они хотели знать, что у меня в сумочке, в туалете, в списке необходимой парфюмерии и косметики. Они сдирали с нас слой за слоем и превратили во что-то совсем уже выпотрошенное и пустое.
Выходя с Джонсом из клуба, я, кажется, хотела сделать больно именно полоумным сучкам. В пьяном величии мне представлялось, что я в силах сокрушить их миры. Но, как предсказал бы любой болван, сучки перенесли травму очень легко. Я, разумеется, разбомбила собственный песочный замок, вытоптав его в миленький такой жесткий, плоский, пустой пляж.
Слоган первого фильма был «Раз полюбил, это навсегда». Четвертого, моего последнего, – «Раз упал, это навсегда». На постере отфотошопленный мрачный Оливер и отфотошопленная пухлогубая я наложены на красивый, но жутковатый цифровой город, силуэт которого из куполов цвета золотистого лука припорошен снегом. Каким будет слоган шестого фильма? Десятого? «Раз помер, это, ради бога, навсегда»?
Гвендолин все пишет. На данный момент вышло семь книг. Но даже до того, как меня вышвырнули, мы с Оливером старели быстрее, чем наши герои. Мы не могли быть ими вечно. Точнее, я не могла оставаться Катериной. Всем прекрасно известно: мужчины не стареют, по крайней мере стареют не так, что это имеет значение. Сейчас они снимают пятый. Девчонка, заменившая меня, – подросток.
Гадость в том, что первый раз мы с Оливером действительно трахнулись в машине. Но не на премьере, а после вручения премии детской аудитории. Первый фильм «Архангела» получил все возможные детские награды. Существует ли ложь больше той, что «я хочу только тебя»? Или «навсегда»? Кто первым сказал, что ничто не длится всегда? Кто первым заметил?
ВТОРОЕ
Наутро, после того как я уехала с Джонсом, из моего дома убралась команда Оливера. Мои телохранитель и помощница рассказали, что ночью, когда в сети появились первые фотографии, пришли его телохранитель и помощник и все собрали. Уже через пять минут после моего прихода моя агент Шивон позвонила разведать ситуацию и вежливо поинтересоваться, чем я думала. После обеда она перезвонила сообщить неполный список недовольных. Ее присутствие в списке подразумевалось само собой, хотя она и не орала, как могла на первых порах, когда мы обе теряли самообладание, если мне приспичивало сняться в рекламе миниатюрной пиццы для микроволновки. В прошлом году я заработала тридцать два миллиона, а она получила десять процентов. Если вы так же знамениты, как я, то вас можно сравнить с гигантским, плавно скользящим морским существом, экосистемой в себе, питающей тем, что застревает у вас в зубах, колонию мелкой рыбешки.
Алексей Янг, агент Оливера, с кем я спала дважды, тайком, и, может быть, все еще была в него влюблена, сообщил Шивон, что Оливер пал духом и уничтожен. Шивон передала мне. Недовольство выражала студия в целом и ее глава Гавен Дюпре в частности, которому я один раз отсосала, и не потому что хотела. Недовольство выражали инвесторы, Гвендолин-автор-книг-«Архангела», режиссер четвертого фильма, находившегося в монтаже, а также парень, намеченный на роль режиссера пятого.
– Студия – сказала Шивон, – беспокоится, как бы люди – фанаты – не распереживались. Студия боится, что ты разрушила романтическую иллюзию. Ведь очевидно, весь проект зиждется на идее идеальной любви, и мысль…
– Я правда не виновата, если люди так глупы, что не различают реальность и вымысел, – перебила я.
– Да я-то согласна, теоретически, но полагаю, тут можно возразить, что на всех нас лежит ответственность и мы должны защищать наш бренд. Не возьмусь утверждать, будто ты не отвлекла всеобщее внимание от фильма.
Я промолчала.
– Ты уже говорила с Оливером? – спросила Шивон.
– Нет. Кстати, он тоже мне изменял. Я тебе рассказывала.