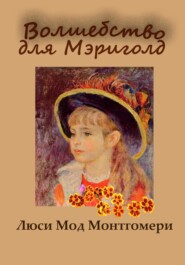По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голубой замок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но Бетти не пригласила ее. Валенси не могла понять почему, но много времени спустя, когда тайные слезы разочарования уже высохли, ей все поведала Олив. Бетти, после долгих совещаний и колебаний, решила, что Валенси слишком незначительна – она могла бы «испортить эффект». Это произошло девять лет назад. Но и сегодня Валенси задержала дыхание от укола старой обиды.
Когда ей было одиннадцать, мать заставила ее признаться в том, чего она не совершала. Валенси долго отрицала, но в конце концов, ради сохранения спокойствия, сдалась и признала себя виновной. Миссис Фредерик имела обыкновение вынуждать людей лгать, ставя их в положение, когда им приходилось это делать. Затем мать приказала ей встать на колени в гостиной, между собой и кузиной Стиклз, и произнести: «Боже, прости меня за то, что я не сказала правду». Валенси повторила эти слова, но, поднявшись с колен, прошептала «Но, Боже, ты же знаешь, что я сказала правду». Валенси тогда еще не слышала о Галилео, но в их судьбах имелось что-то общее. Наказание было жестоким, даже после того, как она созналась и помолилась.
В одну из зим она пошла в школу танцев. Дядя Джеймс решил, что ей следует посещать ее и заплатил за уроки. Как она ждала! И как возненавидела эту школу! У нее никогда не оказывалось партнера, который хотел бы танцевать с нею. Учителю всегда приходилось вызывать какого-либо мальчика ей в пару, и обычно тот бывал недоволен. Хотя Валенси хорошо танцевала, будучи легкой, как пушинка. Олив, которая никогда не имела недостатка в партнерах, была тяжеловата.
Случай с пуговичной нитью, когда ей было десять. У всех девочек в школе имелись пуговичные нити. У Олив была самая длинная с множеством красивых пуговиц. Была нить и у Валенси – большинство пуговиц простых, но шесть чудесных, со свадебного платья бабушки Стирлинг – сверкающих золотом и стеклом, намного красивее, чем у Олив. Обладание ими давало Валенси некоторое преимущество. Она знала, что каждая девочка в школе завидует, что у нее есть такие прекрасные пуговицы. Когда Олив увидела их на ее пуговичной нити, то лишь коротко взглянула, но ничего не сказала. На следующий день тетя Веллингтон пришла на улицу Вязов и сообщила миссис Фредерик, что считает, что у Олив должно быть несколько таких пуговиц – бабушка Стирлинг более приходилась матерью Веллингтонам, чем Фредерикам. Миссис Фредерик дружелюбно согласилась. Она не могла позволить себе ссору с тетей Веллингтон. Более того, дело не стоило и выеденного яйца. Тетя Веллингтон забрала четыре пуговицы, щедро оставив Валенси две. Та сорвала их с нити и бросила на пол – ее еще не научили, что леди не имеют чувств – и за этот поступок была отправлена в кровать без ужина.
Вечеринка у Маргарет Блант. Валенси так старалась, чтобы хорошо выглядеть в тот вечер. Там должен был присутствовать Роб Уолкер, а парой дней раньше, у дяди Герберта на Мистависе, на веранде, освещенной лунным светом, Роб, как ей показалось, заинтересовался ею. У Маргарет Роб даже не пригласил ее потанцевать – совсем не замечал ее. Она, как обычно, простояла у стены. Конечно, это произошло много лет назад. В Дирвуде давно забыли, что Валенси не приглашали танцевать. Но она помнила все то унижение и разочарование. Ее лицо пылало в темноте, когда она вспоминала себя, стоящую там, с уложенными в жалкую прическу редкими волосами и щеками, которые щипала целый час, пытаясь придать им румянец. А все закончилось нелепыми разговорами о том, что Валенси Стирлинг нарумянилась на вечеринку. В те дни в Дирвуде этого было достаточно, чтобы навсегда испортить репутацию. Но не повредило репутации Валенси, даже не затронуло ее. Все и так знали, что она не может, как ни пытайся, быть легкомысленной, и просто посмеялись над ней.
«Моя жизнь всегда была второсортной, – пришла к выводу Валенси. – Все великие жизненные потрясения прошли мимо. У меня никогда не было даже горя. И любила ли я кого-нибудь по-настоящему? Разве я люблю свою мать? Нет. Это правда, какой бы постыдной она ни казалась. Я не люблю ее, и никогда не любила. А что еще хуже, она мне даже не симпатична. Поэтому я и представления не имею, что значит любить. Моя жизнь была пуста… пуста. Ничего нет хуже пустоты. Ничего!» Валенси страстно и громко произнесла последнее «ничего». Застонала и на время перестала думать о чем-либо. Ее настиг один из приступов боли.
Когда он прошел, что-то произошло с Валенси – возможно, наступила кульминация всего, о чем она передумала, с тех пор как получила письмо доктора Трента. Было три часа утра, самое мудрое и проклятое время на часах. Но иногда оно дарит свободу.
«Я всю жизнь пыталась угождать людям и потерпела крах, – сказала она. – Теперь я буду угождать себе. Никогда больше не стану притворяться. Я всю жизнь дышала атмосферой фантазий, притворства и уверток. Какой роскошью будет говорить правду! Возможно, я не смогу сделать все, что хочу, но я не стану делать то, чего не хочу. Мама может дуться неделями, не буду беспокоиться об этом. Отчаяние – это свобода, надежда – рабство».
Валенси встала и оделась с возрастающим ощущением освобождения. Закончив укладывать волосы, она открыла окно и вышвырнула банку с травами на соседский участок. Та победно грохнулась прямо на «Цвет лица школьницы» на стене старых мастерских.
«Меня тошнит от запаха мертвечины», – сказала Валенси.
Глава IX
Серебряная годовщина венчания дяди Герберта и тети Альберты в семействе Стирлингов в течение последующих недель деликатно вспоминалась как «момент, когда мы впервые заметили, что бедняжка Валенси… стала… немного… ну, вы понимаете?»
Никто из Стирлингов, разумеется, не высказал вслух и, тем более, первым, что Валенси слегка повредилась рассудком или что ее разум в небольшом беспорядке. Когда дядя Бенджамин воскликнул: «Она чокнутая, говорю я вам, она чокнутая!», все посчитали, что он зашел слишком далеко. Он был прощен лишь из-за возмутительного поведения Валенси на вышеуказанном торжестве.
Однако миссис Фредерик и кузина Стиклз еще до ужина заметили кое-что, встревожившее их. Все, разумеется, началось с розового куста, и с тех пор Валенси уже не была «в порядке». Казалось, она совсем не переживала из-за молчания матери. Более того, она вовсе не замечала его. Отказалась принимать фиолетовые таблетки и микстуру Редферна. Холодно объявила, что более не намерена откликаться на имя Досс. Заявила кузине Стиклз, что хотела бы, чтобы та перестала носить брошь с волосами покойной кузины Артемас Стиклз. Передвинула кровать в своей комнате в другой угол. Читала Магию крыльев воскресным днем. Когда кузина Стиклз упрекнула ее, она ответила: «Ах, а я и позабыла, что сегодня воскресенье», и продолжила чтение.
Кузина Стиклз стала свидетелем вопиющего поступка Валенси – увидела, как та съезжает по перилам. Кузина Стиклз не рассказала об этом миссис Фредерик – бедняжка Амелия была и так достаточно расстроена. Но каменное молчание миссис Фредерик рухнуло после декларации Валенси, сделанной ею в субботу вечером – о том, что она не собирается посещать англиканскую церковь.
«Больше не пойдешь в церковь? Досс, ты совсем отказываешься…»
«Нет, я буду ходить в церковь, – легко ответила Валенси. – В пресвитерианскую. Но в англиканскую не стану».
Что было еще хуже. Обнаружив, что возмущенное величие больше не срабатывает, Миссис Фредерик обратилась к слезам.
«Что ты имеешь против англиканской церкви?» – простонала она.
«Ничего, кроме того, что ты вечно заставляла меня ходить туда. Если бы то была пресвитерианская церковь, я бы пошла в англиканскую».
«Разве хорошо говорить такие вещи своей матери? О, как верны слова, что иметь неблагодарное дитя хуже укуса ядовитой змеи».
«А разве хорошо говорить такие вещи своей дочери?» – спокойно спросила Валенси.
Поэтому поведение Валенси на серебряной свадьбе для миссис Фредерик и Кристин Стиклз не было таким уж сюрпризом, как для всех остальных. Они даже сомневались, разумно ли брать ее туда, но в конце концов решили, что, если оставить ее дома, «пойдут разговоры». Может быть, она повела бы себя, как обычно, и никто из посторонних не заподозрил бы, что с нею что-то не так. По особой милости Провидения в воскресное утро хлынул ливень, поэтому Валенси не осуществила свою угрозу отправиться в пресвитерианскую церковь.
Валенси вовсе не переживала бы, оставь они ее дома. Все семейные торжества отличались безнадежной скукой. Но Стирлинги праздновали все события, которые можно было отпраздновать. Это стало давно установившейся традицией. Даже миссис Фредерик давала обед по поводу годовщины свадьбы, а кузина Стиклз приглашала подруг на именинные ужины. Валенси ненавидела эти развлечения, потому что после них приходилось неделями скупиться, экономить и изобретать, как расплатиться за них. Но ей хотелось пойти на эту серебряную свадьбу. Дядя Герберт обидится, если она не придет, а она хорошо относилась к дяде Герберту. Кроме того, ей хотелось взглянуть на своих родственников под иным углом. Отличное время и место, чтобы озвучить свою декларацию о независимости, если представится случай.
«Надень свое коричневое шелковое платье», – сказала миссис Стирлинг.
Как будто Валенси могла надеть что-то другое! У нее имелось лишь одно нарядное платье – шелковое, табачного цвета, подарок тети Изабель. Тетя Изабель раз и навсегда постановила, что Валенси не следует носить разноцветные вещи. Они ей не идут. В юности ей позволяли носить белое, но в последние годы этот вопрос был негласно закрыт. Валенси надела это платье с глухим воротом и длинными рукавами. У нее никогда не было наряда с низким вырезом и рукавами до локтей, хотя такие носили даже в Дирвуде уже более года. Но она не стала укладывать волосы в обычном стиле помпадур. Завязала их узлом на затылке и спустила по бокам на уши.
Она подумала, что такая прическа пойдет ей – только узел получился слишком маленьким. Миссис Фредерик возмутилась из-за прически, но лишь про себя, решив, что сейчас разумнее промолчать. Важно, чтобы Валенси оставалась в хорошем настроении и, если возможно, до конца вечера. Миссис Фредерик и не заметила, что впервые в жизни подумала о необходимости хорошего настроения у Валенси. Но ведь до сих пор та никогда не бывала «странной».
По пути к дяде Герберту – миссис Фредерик и кузина Стиклз шли впереди, а Валенси смиренно семенила следом – мимо проехал Ревущий Абель. Пьяный, как обычно, но еще не в ревущей стадии. Но достаточно нетрезвый, чтобы быть сверх меры вежливым. Жестом монарха, приветствующего своих подданных, он приподнял свою потрепанную клетчатую кепку, а затем отвесил глубокий поклон. Миссис Фредерик и кузина Стиклз не осмеливались портить отношения с Ревущим Абелем. Он был единственным человеком в Дирвуде, который мог выполнить для них плотницкие и ремонтные работы, когда это требовалось, поэтому его не следовало обижать. Но они ответили лишь сухими короткими кивками. Ревущий Абель должен знать свое место.
Валенси, идущая за ними, совершила поступок, который они, к счастью, не заметили. Она весело улыбнулась и помахала рукой Ревущему Абелю. Почему нет? Ей всегда нравился этот старый грешник. Веселый, яркий, бесстыжий негодник, противостоящий скучной респектабельности Дирвуда и его традициям, словно красный революционный флаг протеста. Всего несколько дней назад Абель проехал через Дирвуд ночью, выкрикивая во все горло проклятья своим громоподобным голосом, который был слышен за мили, и пустил свою лошадь бешеным галопом, проезжая по чопорной, порядочной улице Вязов.
«Вопя и богохульствуя, словно дьявол», – с содроганием вспомнила за завтраком кузина Стиклз.
«Не понимаю, почему Божий суд так долго не обрушивается на такого человека», – недовольно сказала миссис Фредерик, видимо, считая Провидение слишком медлительным и нуждающимся в напоминаниях.
«Однажды утром его найдут мертвым – он упадет под копыта своей лошади и будет затоптан насмерть», – заверила кузина Стиклз.
Валенси, разумеется, промолчала, но про себя подумала, не были ли периодические пьянки Ревущего Абеля тщетным протестом против бедности, тяжелого труда и монотонности жизни. Она погружалась в мечты о Голубом Замке. Ревущий Абель, не имея воображения, не мог этого сделать. Его побеги из реальности должны были быть конкретными. Поэтому сегодня она помахала ему рукой с внезапным дружеским чувством, а он, не настолько пьяный, чтобы потерять способность удивляться, чуть не свалился от изумления с седла.
К этому моменту они достигли Кленового бульвара и дома дяди Герберта, большого претенциозного здания, окаймленного бессмысленными выступающими окнами и вычурными балконами. Дом, похожий на глупого, преуспевающего, самодовольного человека с бородавками на лице.
«Это не дом, – важно заметила Валенси, – а просто кощунство».
Миссис Фредерик содрогнулась до глубины души. Что такое сказала Валенси? Богохульство? Или просто какую-то чушь? Трясущимися руками она сняла шляпу в комнате для гостей и сделала еще одну слабую попытку предотвратить катастрофу. Она задержала Валенси, пока кузина Стиклз спускалась вниз.
«Попробуй не забывать, что ты леди?» – умоляющим голосом попросила она.
«О, если бы была хоть какая-то надежда забыть об этом!» – устало ответила Валенси.
Миссис Фредерик подумала, что не заслужила такого от Провидения.
Глава X
«Благослови эту пищу, что мы едим, и благослови нас на служение Тебе», – торопливо сказал дядя Герберт. Тетя Веллингтон нахмурилась. Она всегда считала молитвы Герберта слишком короткими и «легкомысленными». Молитва, чтобы быть молитвой, должна, по мнению тети Веллингтон, продолжаться по меньшей мере минуты три и произноситься выспренним тоном, что-то меж стоном и речью. В знак протеста она держала голову склоненной чуть дольше, чем все остальные. Когда она позволила себе выпрямиться, то увидела, что Валенси смотрит на нее. Позже тетя Веллингтон утверждала, что именно в тот момент поняла, что с Валенси что-то не так. В ее странных раскосых глазах – «мы должны были подозревать, что у девушки с такими глазами есть какой-то изъян» – мерцали насмешка и удовольствие, словно Валенси смеялась над нею. Разумеется, это было бы невероятно. Тетя Веллингтон тотчас отбросила эту мысль прочь. Валенси развлекалась. Никогда прежде семейное собрание не доставляло ей столько удовольствия. На приемах, как и в детских играх, она всегда была лишь «дополнением». В семействе ее считали слишком скучной. Она не владела никакими светскими уловками. Более того, привычка искать укрытия от скуки семейных вечеринок в своем Голубом замке вела к рассеянности, что укрепляло ее репутацию тусклости и пустоты.
«В ней отсутствует светское обаяние», – раз и навсегда постановила тетя Веллингтон. Никто бы и не подумал, что Валенси просто-напросто немела в их присутствии, оттого что боялась их. Но больше она не боялась. Кандалы спали с ее души. Она была готова высказаться, если представится случай. И она позволила себе такую свободу мысли, на какую прежде никогда бы не осмелилась. Она действовала с тем же шальным внутренним торжеством, с каким дядя Герберт разрезал индейку. Дядя Герберт взглянул на Валенси во второй раз за день. Будучи мужчиной, он не понял, что она сотворила со своими волосами, но, к собственному удивлению, подумал, что Досс не так уж дурна, и положил добавку белого мяса в ее тарелку.
«Какой гриб самый опасный для красоты юной леди?» – провозгласил дядя Бенджамин, чтобы начать разговор – «чуть расслабиться», – как он говорил.
Валенси, чьей обязанностью было спросить «И какой же?», промолчала, поэтому дяде Бенджамину пришлось выдержать паузу, ответить «Грусть»[8 - Загадка построена на игре слов – груздь и грусть (в оригинале – time (время) и thyme (тимьян) – омофоны, то есть имеют одинаковое произношение).] и понять, что загадка провалилась. Он возмущенно взглянул на Валенси, которая никогда прежде его не подводила, но та, казалось, даже не заметила этого. Она оглядывалась вокруг, безжалостно изучая участников этого тоскливого собрания существ разумных, и забавлялась, наблюдая с беспристрастной улыбкой за их мелкой суетой. Этих людей она всегда почитала и боялась. Теперь она смотрела на них другими глазами.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: