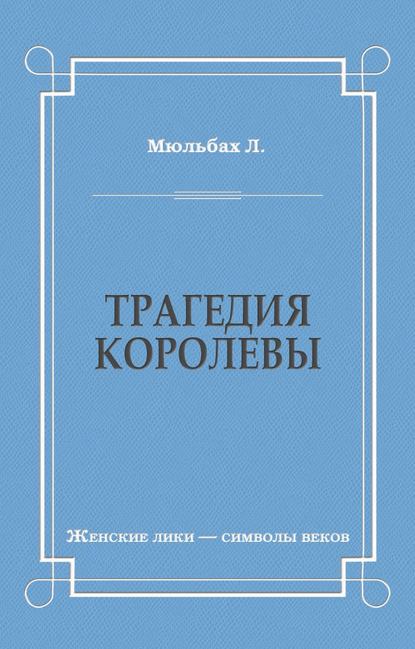По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Трагедия королевы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Они берут их из своей зависти, из ненависти к австрийскому дому, из ревности к королю. Они делают из мухи слона, из крошечного камешка – скалу. Ах, друг мой, сегодня я так много выстрадала! – со слезами добавила королева. – Конечно, я не могу жаловаться королю, потому что не хочу быть причиной его разлада с семьей; но вы – друг мне, и я верю в вашу искреннюю дружбу и в благородство ваших мыслей. Итак, скажите мне вы, так хорошо знающий свет, такой опытный, – разве я поступаю дурно, живя так, как я живу? Разве тетки короля правы, вменяя мне в преступление то, что я также хочу иметь радости в жизни, разве прав граф Прованский, считая преступлением то, что я даю советы королю? Разве я осуждена стоять пред лицом народа и всего двора, как какая-то ненужная статуя? Неужели королева не имеет права чувствовать, любить, ненавидеть, как всякое живое существо? Отвечайте, Безанваль! Говорите, как подобает честному, прямодушному человеку, и помните, что Бог слышит вас!
– Пусть Он слышит меня! – торжественно произнес барон. – Для меня нет ничего важнее, как чтобы ваше величество слышали меня. Нет, принцессы не правы: они смотрят на все глазами василиска, они завидуют и видят все в неправильном освещении. При дворе своего родителя они видели порок, облеченный в покровы добродетели, бесстыдство, наряженное в одежду невинности; поэтому они не верят в добродетель. Граф Прованский также не прав, ставя в упрек вашему величеству любовь короля, обожающего свою супругу, подобно простому смертному, и слушающему ее советы. Ваши политические мнения расходятся с его мнениями, да и расположение короля к его супруге отодвинуло его родственников на задний план. Между тем они – французские принцы, а ваше величество – австриячка и друг герцога Шуазеля, – вот и все ваши преступления. Ваше величество, вы не выиграли бы в глазах врагов даже и тогда, если бы жили так, как требуют столетия запыленные книги придворного этикета; поэтому было бы безумием уступить и осудить себя на одиночество и скуку. Вашему величеству ставят в вину уничтожение парадных собраний, видя в этом причину падения народного почитания королевской власти! Но ведь смешно думать, что почитание народа зависит от числа скучнейших часов, проведенных королевской семьей среди скучных, замороженных этикетом придворных! Нет, государыня, не слушайте шипения змей и мужественно продолжайте свой путь: это путь невинности, простодушия и любви.
– О, благодарю вас, благодарю вас! – воскликнула Мария-Антуанетта. – Вы избавили меня от жестоких сомнений и успокоили меня. Благодарю вас! – И она с сияющими глазами и нежной улыбкой протянула Безанвалю обе руки.
Он крепко сжал их в своих и, бросившись на колени, прильнул губами к этим нежным, белым рукам, после чего страстно воскликнул:
– О моя королева, моя владычица! Вы видите у своих ног вашего преданнейшего раба! Приношу вам клятву в вечной преданности и любви! Вы осчастливили меня своим доверием, вы назвали меня вашим другом… Но моя душа, мое сердце пламенно жаждут другого имени… Скажите это слово, Мария-Антуанетта…
Королева отшатнулась, побледнев как смерть. На ее лице выразился ужас, затем его сменило презрение.
– Герцог, – сказала она с чисто королевским величием, – я только что говорила вам, что нас слышит Господь. Он слышал ваши преступные слова, пусть Он и наказывает вас. Встаньте! Король не должен узнать о поступке, который навсегда лишил бы вас его милостей. Если же вы хоть одним взглядом, одним словом намекнете на то, что произошло, король все узнает… Идите вперед, я приду одна.
Опытный светский человек, искусный царедворец почувствовал себя смущенным, пристыженным. Этого еще никогда не бывало с ним: он не находил слов. Молча поднявшись с колен, он неловко поклонился и пошел по дорожке, указанной ему королевой.
– Я потеряла еще одну иллюзию, – с горькой улыбкой сказала Мария-Антуанетта, – и опять я одна! Неужели для меня нет подруги, которая не обратилась бы в завистницу, нет друга, который не обратился бы в обожателя? Даже этот человек, которого я уважала, на которого смотрела, как ученица на учителя, – даже он осмелился оскорбить меня!
Она со стоном закрыла лицо руками, и горькие слезы полились из ее глаз.
Кругом было тихо; только раздавалось в густой листве пение птички, искавшей в тени прохлады от жгучего августовского солнца, да тихонько шептались деревья, тронутые легким ветерком, да цветы склоняли друг к другу головки, точно хотели рассказать про слезы и скорбь королевы; но эти слезы падали на цветы, не освежая их: ведь это была не небесная роса, а слезы земной скорби.
– Довольно слез! – сказала наконец королева. – Что скажут мои гости, если заметят, что веселая и беззаботная королева проливает слезы? О господи, в один сегодняшний день я заплатила страшные проценты за свое счастье. Сохрани мне главное, чем живет мое сердце! Тогда я мужественно буду платить за него свету!
Она гордо подняла голову и направилась к ферме, своей маленькой Аркадии, своему раю. Она сама, при помощи архитектора Робера, создала этот идиллический уголок, возникший среди пышного блеска двора, подобно скромной фиалке, попавшей среди роскошных, ярких тропических цветов в раззолоченную вазу на королевском столе.
Ферма состояла из нескольких деревенских домиков, теснившихся один к другому; позади них мирно журчал ручеек, приводя в движение колесо маленькой мельницы, стоявшей на самом краю небольшой поляны. Рядом с нею виднелся домик, крытый соломой, обвитый диким виноградом и обсаженный цветами. Это был домик фермерши, Марии-Антуанетты. Королева сама делала для него планы и рисунки. Она пожелала, чтобы это был маленький, простой, скромный домик, чтобы он не казался новым, и позаботилась придать ему вид жилища, уже пострадавшего от времени. Рядом с этим домиком помещалась молочная; когда Мария-Антуанетта и другие «крестьянки» доили на лужайке коров, то приносили молоко в белых ведрах с серебряными дужками через всю «деревню» в молочную, где на белых мраморных столиках разливали его в красивые белые чашки.
На другой стороне улицы возвышался красивый дом старшины; рядом с ним находилось жилище школьного учителя.
– А все-таки хорошо жить на свете, – сказала королева, окинув радостным взглядом свое создание, и быстро пошла вперед, поглядывая на окна домиков, не видно ли кого из «крестьян» и «крестьянок», ожидающих свою «фермершу».
В это время мельничное колесо пришло в движение, а на пороге мельницы показалась упитанная фигура мельника в белом костюме и с обсыпанным мукой лицом. Королева радостно вскрикнула и побежала к мельнице.
Но не успела она добежать до цели, как из своего дома вышел деревенский мэр в черном одеянии, с большим белым галстуком на шее, с испанской тростью с золотым набалдашником в руке и в черной треугольной шляпе. Он раскинул руки и с угрожающим видом преградил ей дорогу.
– Госпожа фермерша, – сказал он, – мы все очень недовольны вами! Вы пренебрегаете своими обязанностями, и мы привлечем вас к ответственности за то, что вы являетесь так поздно. Все цветы уже повесили головки, соловьи перестали петь, а овцы не хотят есть даже самую лучшую траву. Все хозяйство гибнет, когда вас нет!
– Это неправда! – прозвучал веселый голос, и из распахнувшегося окна школьного дома выглянул веселый, юный учитель и погрозил розгой строгому и важному мэру.
– Как он может утверждать, что все хозяйство гибнет, когда я здесь? – сказал он. – С тех пор как умнейшие люди отказались у меня учиться, я сделался учителем домашних животных и занимаюсь этим делом так, чтобы оно доставляло мне удовольствие. Я преподаю танцы козлам и учредил балетную школу для козлят.
Мария-Антуанетта громко расхохоталась.
– Господин школьный учитель, – сказала она, – я страстно желаю увидеть доказательство вашего умения; поэтому приглашаю вас дать нам сегодня представление с вашей балетной школой на большом лугу. А вас, господин мэр, я прошу не быть таким строгим к фермерше и иметь снисхождение.
– Разве моя дорогая невестка нуждается хоть когда-нибудь в снисхождении? – с пафосом воскликнул мэр.
– О граф! – со смехом возразила королева. – Вы вышли из своей роли и забыли два обстоятельства: первое – что здесь я – не королева, и второе – что всякая лесть в Трианоне строго запрещена.
– Вы сами виноваты, если правда звучит лестью, – с легким поклоном возразил граф Прованский.
– Вот ответ, достойный ученого! – воскликнул «школьный учитель», граф д’Артуа. – Брат, ты не знаешь даже азбуки в науке любезностей. Ты непременно должен поступить ко мне в учение.
– О, я уверен, брат Шарль, что мог бы многому научиться у тебя, – засмеялся граф Прованский, – только не знаю, осталась ли бы довольна этими уроками моя супруга!
– А вот мы спросим ее, – сказала королева. – До свидания, дорогие братья, я тороплюсь поздороваться со своим милым мельником.
Она быстро взбежала на деревянную лесенку, ведшую на мельницу, и обвила руками шею мельника, а он, крепко прижав ее к своему сердцу, увлек ее внутрь.
– Благодарю тебя, Людовик! – воскликнула королева, целуя руку мужа. – Какой прелестный сюрприз ты мне устроил!
– Разве ты не говорила, что тебе хочется этого маскарада? – весело ответил король. – Здесь все делается по приказу королевы, так не удивляйся, что мы покорно исполнили роли, которые ты сама распределила между нами.
– О Людовик, как ты добр! – со слезами на глазах сказала королева. – Ведь я знаю, что все эти игры не доставляют тебе удовольствия, но ты все-таки принимаешь в них участие!
– Все потому только, что я люблю тебя, – просто ответил король, и счастливая улыбка скрасила его широкое, добродушное лицо. – Да, Мария, я люблю тебя, и мне доставляет большую радость доставлять тебе удовольствие.
Королева нежно прислонилась головой к груди мужа.
– Даря мне Трианон, Людовик, ты сказал мне: «Вы любите цветы, я дарю вам целый букет!» Мой дорогой государь, вы не только букет цветов подарили мне: вы мне подарили целый букет счастливых часов, счастливых лет, которыми я обязана только вам, вам одному!
– Пусть же этот букет никогда не завянет, Мария, – произнес король, поднимая к небу набожный, молящий взор и кладя руку на голову своей жены, словно благословляя ее. – Однако, госпожа фермерша, – после некоторого молчания прибавил он, – вы заставили меня позабыть свою роль: колесо остановилось, потому что мельник не на своем месте. Вообще наша мельница не совсем в порядке, и мне придется приложить здесь к делу свои слесарные познания… Но что это за пение раздается на улице?
– Это «крестьяне» и «крестьянки» зовут нас, – смеясь, сказала королева, – покажемся им, господин мельник!
Они вышли на наружную лестницу, у подножия которой собрались мэр, учитель, крестьяне и крестьянки, которые хором пели:
Выше счастья нет нигде,
Как в родной своей семье.
На глазах королевы навернулись радостные слезы. О, как полны были счастьем часы, проведенные сегодня в Трианоне королевской четой! Они были так ярко озарены солнцем, что Мария-Антуанетта совсем забыла тучи, омрачавшие утро.
Все обедали по-деревенски, потом гуляли по лугу, любуясь на пасущихся коров; потом фермерша подала подругам пример и принялась за работу: принесли ее прялку, и она уселась за пряжу. Быстро вертелось колесо прялки, подобно колесу счастья, приносящему сегодня радость, завтра – печаль. Колесо счастья уже повернулось, горе уже близилось, но Мария-Антуанетта еще не знала этого; ее глаза еще светились счастьем, губы улыбались. Она сидела со всем своим обществом на берегу озера и удила рыбу и радовалась, если ей удавалось поймать что-нибудь: ведь эта рыба должна быть подана на ужин, на который фермерша пригласила своего супруга и который она была намерена приготовить своими руками.
Король ушел на мельницу отдохнуть, но кто-то нарушил его покой. Вероятно, дело было очень важно, если рискнули сделать это; ведь все знали, что в Трианоне король бывает редко и, раз он там, его нельзя беспокоить делами.
Но сегодня его обеспокоили, и министр барон де Бретейль сам явился в Трианон, чтобы видеть мельника и попросить его на этот раз стать опять королем.
IV. Ожерелье королевы
Когда камердинер, переодетый помощником мельника, доложил о приезде министра, король немедленно удалился в свою комнату и переоделся в свой обычный костюм: короткие панталоны, серый кафтан с серым атласным, вышитым золотом жилетом и орденом Святого Людовика на небесно-голубой ленте.
Переодевшись, король с озабоченным и встревоженным лицом вошел в комнату, где его ждал его первый министр, барон де Бретейль, и воскликнул:
– Говорите скорее! Вы принесли мне дурные вести? Случилось что-нибудь неожиданное?
– Государь, – почтительно ответил министр, – случилось действительно нечто неожиданное; насколько оно может быть названо дурной вестью, покажет следствие.
– Следствие? – воскликнул король. – Значит, дело идет о преступлении?
– Пусть Он слышит меня! – торжественно произнес барон. – Для меня нет ничего важнее, как чтобы ваше величество слышали меня. Нет, принцессы не правы: они смотрят на все глазами василиска, они завидуют и видят все в неправильном освещении. При дворе своего родителя они видели порок, облеченный в покровы добродетели, бесстыдство, наряженное в одежду невинности; поэтому они не верят в добродетель. Граф Прованский также не прав, ставя в упрек вашему величеству любовь короля, обожающего свою супругу, подобно простому смертному, и слушающему ее советы. Ваши политические мнения расходятся с его мнениями, да и расположение короля к его супруге отодвинуло его родственников на задний план. Между тем они – французские принцы, а ваше величество – австриячка и друг герцога Шуазеля, – вот и все ваши преступления. Ваше величество, вы не выиграли бы в глазах врагов даже и тогда, если бы жили так, как требуют столетия запыленные книги придворного этикета; поэтому было бы безумием уступить и осудить себя на одиночество и скуку. Вашему величеству ставят в вину уничтожение парадных собраний, видя в этом причину падения народного почитания королевской власти! Но ведь смешно думать, что почитание народа зависит от числа скучнейших часов, проведенных королевской семьей среди скучных, замороженных этикетом придворных! Нет, государыня, не слушайте шипения змей и мужественно продолжайте свой путь: это путь невинности, простодушия и любви.
– О, благодарю вас, благодарю вас! – воскликнула Мария-Антуанетта. – Вы избавили меня от жестоких сомнений и успокоили меня. Благодарю вас! – И она с сияющими глазами и нежной улыбкой протянула Безанвалю обе руки.
Он крепко сжал их в своих и, бросившись на колени, прильнул губами к этим нежным, белым рукам, после чего страстно воскликнул:
– О моя королева, моя владычица! Вы видите у своих ног вашего преданнейшего раба! Приношу вам клятву в вечной преданности и любви! Вы осчастливили меня своим доверием, вы назвали меня вашим другом… Но моя душа, мое сердце пламенно жаждут другого имени… Скажите это слово, Мария-Антуанетта…
Королева отшатнулась, побледнев как смерть. На ее лице выразился ужас, затем его сменило презрение.
– Герцог, – сказала она с чисто королевским величием, – я только что говорила вам, что нас слышит Господь. Он слышал ваши преступные слова, пусть Он и наказывает вас. Встаньте! Король не должен узнать о поступке, который навсегда лишил бы вас его милостей. Если же вы хоть одним взглядом, одним словом намекнете на то, что произошло, король все узнает… Идите вперед, я приду одна.
Опытный светский человек, искусный царедворец почувствовал себя смущенным, пристыженным. Этого еще никогда не бывало с ним: он не находил слов. Молча поднявшись с колен, он неловко поклонился и пошел по дорожке, указанной ему королевой.
– Я потеряла еще одну иллюзию, – с горькой улыбкой сказала Мария-Антуанетта, – и опять я одна! Неужели для меня нет подруги, которая не обратилась бы в завистницу, нет друга, который не обратился бы в обожателя? Даже этот человек, которого я уважала, на которого смотрела, как ученица на учителя, – даже он осмелился оскорбить меня!
Она со стоном закрыла лицо руками, и горькие слезы полились из ее глаз.
Кругом было тихо; только раздавалось в густой листве пение птички, искавшей в тени прохлады от жгучего августовского солнца, да тихонько шептались деревья, тронутые легким ветерком, да цветы склоняли друг к другу головки, точно хотели рассказать про слезы и скорбь королевы; но эти слезы падали на цветы, не освежая их: ведь это была не небесная роса, а слезы земной скорби.
– Довольно слез! – сказала наконец королева. – Что скажут мои гости, если заметят, что веселая и беззаботная королева проливает слезы? О господи, в один сегодняшний день я заплатила страшные проценты за свое счастье. Сохрани мне главное, чем живет мое сердце! Тогда я мужественно буду платить за него свету!
Она гордо подняла голову и направилась к ферме, своей маленькой Аркадии, своему раю. Она сама, при помощи архитектора Робера, создала этот идиллический уголок, возникший среди пышного блеска двора, подобно скромной фиалке, попавшей среди роскошных, ярких тропических цветов в раззолоченную вазу на королевском столе.
Ферма состояла из нескольких деревенских домиков, теснившихся один к другому; позади них мирно журчал ручеек, приводя в движение колесо маленькой мельницы, стоявшей на самом краю небольшой поляны. Рядом с нею виднелся домик, крытый соломой, обвитый диким виноградом и обсаженный цветами. Это был домик фермерши, Марии-Антуанетты. Королева сама делала для него планы и рисунки. Она пожелала, чтобы это был маленький, простой, скромный домик, чтобы он не казался новым, и позаботилась придать ему вид жилища, уже пострадавшего от времени. Рядом с этим домиком помещалась молочная; когда Мария-Антуанетта и другие «крестьянки» доили на лужайке коров, то приносили молоко в белых ведрах с серебряными дужками через всю «деревню» в молочную, где на белых мраморных столиках разливали его в красивые белые чашки.
На другой стороне улицы возвышался красивый дом старшины; рядом с ним находилось жилище школьного учителя.
– А все-таки хорошо жить на свете, – сказала королева, окинув радостным взглядом свое создание, и быстро пошла вперед, поглядывая на окна домиков, не видно ли кого из «крестьян» и «крестьянок», ожидающих свою «фермершу».
В это время мельничное колесо пришло в движение, а на пороге мельницы показалась упитанная фигура мельника в белом костюме и с обсыпанным мукой лицом. Королева радостно вскрикнула и побежала к мельнице.
Но не успела она добежать до цели, как из своего дома вышел деревенский мэр в черном одеянии, с большим белым галстуком на шее, с испанской тростью с золотым набалдашником в руке и в черной треугольной шляпе. Он раскинул руки и с угрожающим видом преградил ей дорогу.
– Госпожа фермерша, – сказал он, – мы все очень недовольны вами! Вы пренебрегаете своими обязанностями, и мы привлечем вас к ответственности за то, что вы являетесь так поздно. Все цветы уже повесили головки, соловьи перестали петь, а овцы не хотят есть даже самую лучшую траву. Все хозяйство гибнет, когда вас нет!
– Это неправда! – прозвучал веселый голос, и из распахнувшегося окна школьного дома выглянул веселый, юный учитель и погрозил розгой строгому и важному мэру.
– Как он может утверждать, что все хозяйство гибнет, когда я здесь? – сказал он. – С тех пор как умнейшие люди отказались у меня учиться, я сделался учителем домашних животных и занимаюсь этим делом так, чтобы оно доставляло мне удовольствие. Я преподаю танцы козлам и учредил балетную школу для козлят.
Мария-Антуанетта громко расхохоталась.
– Господин школьный учитель, – сказала она, – я страстно желаю увидеть доказательство вашего умения; поэтому приглашаю вас дать нам сегодня представление с вашей балетной школой на большом лугу. А вас, господин мэр, я прошу не быть таким строгим к фермерше и иметь снисхождение.
– Разве моя дорогая невестка нуждается хоть когда-нибудь в снисхождении? – с пафосом воскликнул мэр.
– О граф! – со смехом возразила королева. – Вы вышли из своей роли и забыли два обстоятельства: первое – что здесь я – не королева, и второе – что всякая лесть в Трианоне строго запрещена.
– Вы сами виноваты, если правда звучит лестью, – с легким поклоном возразил граф Прованский.
– Вот ответ, достойный ученого! – воскликнул «школьный учитель», граф д’Артуа. – Брат, ты не знаешь даже азбуки в науке любезностей. Ты непременно должен поступить ко мне в учение.
– О, я уверен, брат Шарль, что мог бы многому научиться у тебя, – засмеялся граф Прованский, – только не знаю, осталась ли бы довольна этими уроками моя супруга!
– А вот мы спросим ее, – сказала королева. – До свидания, дорогие братья, я тороплюсь поздороваться со своим милым мельником.
Она быстро взбежала на деревянную лесенку, ведшую на мельницу, и обвила руками шею мельника, а он, крепко прижав ее к своему сердцу, увлек ее внутрь.
– Благодарю тебя, Людовик! – воскликнула королева, целуя руку мужа. – Какой прелестный сюрприз ты мне устроил!
– Разве ты не говорила, что тебе хочется этого маскарада? – весело ответил король. – Здесь все делается по приказу королевы, так не удивляйся, что мы покорно исполнили роли, которые ты сама распределила между нами.
– О Людовик, как ты добр! – со слезами на глазах сказала королева. – Ведь я знаю, что все эти игры не доставляют тебе удовольствия, но ты все-таки принимаешь в них участие!
– Все потому только, что я люблю тебя, – просто ответил король, и счастливая улыбка скрасила его широкое, добродушное лицо. – Да, Мария, я люблю тебя, и мне доставляет большую радость доставлять тебе удовольствие.
Королева нежно прислонилась головой к груди мужа.
– Даря мне Трианон, Людовик, ты сказал мне: «Вы любите цветы, я дарю вам целый букет!» Мой дорогой государь, вы не только букет цветов подарили мне: вы мне подарили целый букет счастливых часов, счастливых лет, которыми я обязана только вам, вам одному!
– Пусть же этот букет никогда не завянет, Мария, – произнес король, поднимая к небу набожный, молящий взор и кладя руку на голову своей жены, словно благословляя ее. – Однако, госпожа фермерша, – после некоторого молчания прибавил он, – вы заставили меня позабыть свою роль: колесо остановилось, потому что мельник не на своем месте. Вообще наша мельница не совсем в порядке, и мне придется приложить здесь к делу свои слесарные познания… Но что это за пение раздается на улице?
– Это «крестьяне» и «крестьянки» зовут нас, – смеясь, сказала королева, – покажемся им, господин мельник!
Они вышли на наружную лестницу, у подножия которой собрались мэр, учитель, крестьяне и крестьянки, которые хором пели:
Выше счастья нет нигде,
Как в родной своей семье.
На глазах королевы навернулись радостные слезы. О, как полны были счастьем часы, проведенные сегодня в Трианоне королевской четой! Они были так ярко озарены солнцем, что Мария-Антуанетта совсем забыла тучи, омрачавшие утро.
Все обедали по-деревенски, потом гуляли по лугу, любуясь на пасущихся коров; потом фермерша подала подругам пример и принялась за работу: принесли ее прялку, и она уселась за пряжу. Быстро вертелось колесо прялки, подобно колесу счастья, приносящему сегодня радость, завтра – печаль. Колесо счастья уже повернулось, горе уже близилось, но Мария-Антуанетта еще не знала этого; ее глаза еще светились счастьем, губы улыбались. Она сидела со всем своим обществом на берегу озера и удила рыбу и радовалась, если ей удавалось поймать что-нибудь: ведь эта рыба должна быть подана на ужин, на который фермерша пригласила своего супруга и который она была намерена приготовить своими руками.
Король ушел на мельницу отдохнуть, но кто-то нарушил его покой. Вероятно, дело было очень важно, если рискнули сделать это; ведь все знали, что в Трианоне король бывает редко и, раз он там, его нельзя беспокоить делами.
Но сегодня его обеспокоили, и министр барон де Бретейль сам явился в Трианон, чтобы видеть мельника и попросить его на этот раз стать опять королем.
IV. Ожерелье королевы
Когда камердинер, переодетый помощником мельника, доложил о приезде министра, король немедленно удалился в свою комнату и переоделся в свой обычный костюм: короткие панталоны, серый кафтан с серым атласным, вышитым золотом жилетом и орденом Святого Людовика на небесно-голубой ленте.
Переодевшись, король с озабоченным и встревоженным лицом вошел в комнату, где его ждал его первый министр, барон де Бретейль, и воскликнул:
– Говорите скорее! Вы принесли мне дурные вести? Случилось что-нибудь неожиданное?
– Государь, – почтительно ответил министр, – случилось действительно нечто неожиданное; насколько оно может быть названо дурной вестью, покажет следствие.
– Следствие? – воскликнул король. – Значит, дело идет о преступлении?