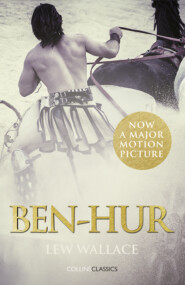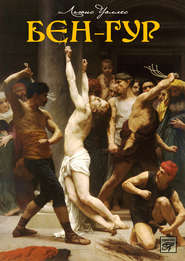По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бен-Гур
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Едва уловимая перемена в тоне его голоса не прошла мимо внимания женщины. Предчувствие заставило ее сердце забиться чаще; веер снова остановил свое движение.
– Мессала! – произнесла она. – И что же он мог сказать такого, что так расстроило тебя?
– Он очень изменился.
– Ты хочешь сказать, что назад он вернулся совершенным римлянином.
– Да.
– Римлянин! – снова повторила она, как бы про себя. – Во всем мире под этим понимается владыка. И как долго он был в отъезде?
– Пять лет.
Она приподняла голову и всмотрелась в ночную тьму.
– Воздух на Виа Сакра ничуть не отличается от воздуха египетских или вавилонских улиц; но в Иерусалиме – нашем Иерусалиме – пребывает Завет.
И, уйдя в свои думы, она снова откинулась на подушки ложа. Сын первым нарушил наступившее молчание:
– То, что говорил Мессала, о мама, само по себе было достаточно резко; а если вспомнить еще и то, как он говорил, – то и вообще невыносимо.
– Думаю, я понимаю тебя. Рим, его поэты, ораторы, сенаторы, придворные буквально помешаны на том, что они называют сатирой.
– Я полагал, что все великие люди горделивы, – продолжал он, едва обратив внимание на ее замечание, – но гордыня этих людей затмевает все; в последнее же время она так раздулась, что посягает даже на самих богов.
– Даже на богов! – воскликнула мать. – Многие римляне относятся к богослужению как к своему божественному праву.
– Что ж, в Мессале всегда был силен дух противоречия. Еще когда он был ребенком, я видел, как он дразнит чужестранцев, которых с почетом принимал и сам Ирод; но все же он никогда не касался Иудеи. Сегодня в первый раз в разговоре со мной он позволил себе смеяться над нашими обычаями и Богом. А теперь, дорогая мама, я хочу понять, есть ли у римлян какое-нибудь основание для такого презрения. В чем я ниже его? В чем наш порядок жизни хуже? Почему я должен чувствовать на себе рабские путы? И особенно объясни мне, почему, если у меня есть душа и свобода выбора, почему я не могу искать себе славу и почет на всех поприщах? Почему я не могу взять в руку меч и отдаться страсти войны? Почему я не могу, став поэтом, слагать песни обо всех вещах на свете? Мне можно стать кузнецом, погонщиком стад, купцом, но почему не художником, как любому из греков? Скажи же мне, о мама, – и в этом весь мой основной вопрос, – почему сын Израиля не может делать то, что может римлянин?
Читатель, безусловно, поймет, что все эти вопросы возникли у молодого человека после разговора на Рыночной площади; его мать, вслушиваясь в слова сына со всей чуткостью материнского сердца, по тем признакам, которые ускользнули бы от внимания менее пристрастного собеседника, – по направленности вопросов, по горячности расспросов и тону – пришла к тому же выводу. Она приподнялась на ложе и в тон сыну быстро и резко произнесла:
– Понимаю, понимаю! По кругу своего общения Мессала в юности был почти что иудеем; останься он здесь, он мог бы стать прозелитом, поскольку все мы много перенимаем от окружающих; но годы, проведенные в Риме, чересчур сильно повлияли на него. Я ничуть не удивляюсь таким переменам в нем; но все же, – голос ее стал тише, – он все же мог бы вести себя сдержаннее, по крайней мере ради тебя. Только такой жесткий, даже жестокий человек, как он, может забыть все то, чем он жил в юности.
Ее рука осторожно легла на лоб сына, пальцы погрузились в его вьющиеся волосы и принялись ласково их перебирать. Глаза женщины, не отрываясь, смотрели на высоко стоящую в небе звезду. Ее собственная гордость откликнулась в нем. Она могла бы ответить ему; но больше всего боялась недостаточности своего ответа – если она даст ему почувствовать свою второсортность, это может ослабить в нем любовь к жизни. Она опасалась не найти достаточной энергии в себе самой.
– Что же до твоих вопросов, о мой Иуда, они не для слабой женщины. Позволь мне отложить их до завтра, и я при мудром Симеоне...
– Только не посылай меня к ректору, – резко прервал ее сын.
– Я попрошу его прийти к нам.
– Нет, я хочу не просто знать, а понять; даже если он может дать мне знание и лучше тебя, о мама, ты можешь дать мне то, на что он не способен. Я должен проанализировать все, ибо анализ и есть суть душа мужчины.
Она на долю секунды подняла взор к небесам, пытаясь представить все возможные повороты их разговора.
– Требуя справедливости в отношении самих себя, неразумно быть несправедливым к другим. Отрицать доблесть врага, который завоевал нас, значит преуменьшать нашу силу; а если враг оказался достаточно силен, чтобы держать нас загнанными в угол – а это куда больше, чем просто завоевать, – она заколебалась, но продолжала, – то чувство собственного достоинства обязывает нас найти другое объяснение нашим несчастьям, чем просто приписывать врагу качества несравненно ниже наших собственных.
Произнеся это скорее для самой себя, она начала:
– Мужайся же, о сын мой. Мессала благородного происхождения; его семья знаменита на протяжении многих поколений. В дни республиканского Рима – я даже не могу сообразить, как давно это было, – члены этой семьи снискали славу, кто как воин, кто на гражданской службе. Я могу припомнить не одного консула, который носил это имя; среди них было много сенаторов, их покровительства искали, поскольку они всегда были богаты. Но, даже если сегодня твой друг хвастался своими предками, ты можешь посрамить его, припомнив своих. Если он упоминал о древности своего рода или хвалился его деяниями, положением, богатством – хотя такие доводы не являются свидетельством большого ума, – если он упоминал все это как доказательство своего превосходства, то ты мог предложить ему сравнить его происхождение с твоим.
Подумав с минуту, мать продолжала:
– Одна из идей, которые сейчас витают в воздухе, состоит в том, что в нынешние времена требуется знатность рас и семей. Римляне кичатся своим превосходством по сравнению с сынами Израиля на том основании, что мы всегда проигрываем в поисках доказательств нашей древности. Началом их истории было основание Рима; даже самые лучшие из них не могут проследить свое происхождение далее этого события; и лишь очень немногие пытаются сделать это; да и те не находят ничего лучше, как ссылаться на доводы традиции. Мессала уж точно не может сделать этого. Обратимся же теперь к нам самим. Можем ли мы сделать это лучше?
Если бы в помещении было чуть больше света, юноша смог бы заметить тень гордости, скользнувшую по лицу матери при этих словах.
– Представим себе, что римлянин бросил нам вызов. Я бы ответила ему, не испытывая ни сомнения, ни чванства.
Голос ее дрогнул, пришедшая в голову мысль заставила ее изменить форму своих доводов.
– Твой отец, о мой Иуда, пребывает сейчас в покое вместе со своими праотцами, но я помню, как если бы это случилось нынешним вечером, как мы однажды отправились в Храм, чтобы представить тебя Господу. Мы принесли в жертву голубей, и я назвала жрецу твое имя, которое он и записал в моем присутствии, – «Иуда, сын Итамара, из рода Гура». Имя это было тут же унесено и записано в книгу в разделе записей, отведенном для самых святых семейств.
Я не могу сказать точно, с каких пор пошла традиция регистрации имени подобным образом. Мы знаем, что она существовала еще до исхода нашего племени из Египта. Я слышала, как Энлиль говорил, что начало этому положил сам Авраам, первым записав свое собственное имя, а потом имена своих сыновей, движимый обещанием Господа, который выделил его и их среди всех остальных народов, сделав их высочайшими и благороднейшими, самыми избранными среди всех народов на земле. Завет с Иаковом послужил тому же. «В лице твоего потомства да будут благословенны все народы земли», – было сказано Аврааму. «И ту страну, где вы живете, отдам я тебе и твоему потомству», – сказал сам Господь Иакову, уснувшему в Бетеле по дороге в Харан. После этого мудрецы ожидали день обретения страны Завета; тогда было положено начало Книге Поколений. Обещание же благословения для всех людей на земле от патриархов дошло до будущих поколений. Было упомянуто одно имя. Благодетелем мог стать даже самый униженный из избранного рода, поскольку для Господа нашего Бога не существует разницы между славным и несчастным, нищим или богачом. Таким образом, с целью сделать свершение этого обещания совершенно явным для тех поколений, кому предстоит узреть его, – и воздать почести тому, кому они должны принадлежать, – и был заведен обычай вести такие записи в строжайшем порядке. Вели ли их должным образом?
Веер в ее руке ходил взад и вперед до тех пор, пока молодой человек, снедаемый нетерпением, не повторил ее вопрос:
– А эти записи абсолютно верны?
– Энлиль сказал, что так оно и есть, а из всех ныне живущих он более кого бы то ни было осведомлен в этом вопросе. Наш народ время от времени мог быть небрежен в отношении какой-либо части наших законов, но только не в этом отношении. Наш знаменитый ректор сам занимался Книгами Поколений в течение трех периодов – от Завета до открытия Храма; затем до Плена Египетского; а после него затем вплоть до наших дней. Лишь однажды ведение этих записей было нарушено, и произошло это как раз в конце второго периода; но, когда наш народ вернулся из долгих скитаний домой, первым делом, исполняя нашу обязанность по отношению к Богу, первосвященник Зеруббабель восстановил ведение этих Книг, дав нам возможность вести родословную еврейского народа на протяжении целых двух тысяч лет. И вот теперь...
Она замолчала, словно давая возможность сыну осознать всю бездну времени, упомянутую ею.
– И вот теперь, – продолжала она, – как выглядят римляне, хвастливо заявляющие, что кровь с годами становится все более драгоценной? По этому признаку сыны Израиля, пасущие стада на холмах Рефаимских, куда благороднее самых благородных отпрысков рода Марсиев.
– А я, мама, – согласно этим Книгам, кто я такой?
– Все, что я сказала до сих пор, сын мой, имеет отношение к твоему вопросу. Я отвечу тебе. Если Мессала был бы здесь, он мог бы сказать, как и говорили другие, что истинная линия твоего происхождения была прервана тогда, когда ассирияне взяли Иерусалим и разрушили Храм. Тогда тебе следовало бы вспомнить про набожность Зеруббабеля и возразить ему на это, что вся достоверность римской генеалогии закончилась тогда, когда варвары с Запада штурмом взяли Рим и шесть месяцев стояли лагерем на развалинах города. Хранило ли их правительство фамильные архивы? И если да, то что стало с ними в те ужасные дни? Нет, нет; истина сохранилась лишь в наших Книгах Поколений; и, прослеживая историю нашего рода вплоть до Плена Египетского, до основания первого Храма, до исхода из Египта, можно с абсолютной уверенностью сказать, что твой род восходит к Гуру, соратнику Иисуса. Полагаю, ты удовлетворен своим происхождением и можешь гордиться им. Хочешь знать его более подробно? Тогда возьми Тору и открой Книгу Чисел. Там в числе семьдесят второго поколения после Адама ты найдешь основателя своего рода.
На несколько минут в комнате наступило молчание.
– Благодарю тебя, о мама, – произнес наконец Иуда, сжимая ее руки в своих ладонях. – Я благодарю тебя от всего сердца. Как же хорошо, что я не слышал призыва нашего доброго ректора; он не смог бы успокоить меня так, как это сделала ты. Но все же – неужели, чтобы сделать род воистину благородным, нужно только время?
– Ах, ты забыл, ты совсем забыл, что наши претензии основываются не только на времени; избранность Богом – вот наша особая гордость.
– Ты сейчас говоришь обо всем нашем народе, а я, мама, имею в виду род – наш род. За годы, прошедшие со дней праотца Авраама, чего он достиг? Что совершил? Какие великие деяния подняли его над другими?
Мать колебалась, думая о том, что все это время она могла говорить не то, что требовалось. Знания, которых добивался ее сын, могли быть ему необходимы для куда более серьезных вещей, чем просто для удовлетворения уязвленного тщеславия. Юность – не более чем раскрашенная раковина, внутри которой живет, постоянно вырастая, дух мужчины, ожидающий момента своего выхода на свет, у одних более раннего, чем у других. Она трепетала при мысли о том, что у ее сына такой момент наступает именно сейчас; что, как новорожденное дитя пытается своими неумелыми руками схватить тени, плача от огорчения, так и его дух может, в своей временной слепоте, сражаться за овладение своим неосязаемым будущим. Тот, к кому подросток приходит, вопрошая: «Кто я есть и кем мне предстоит стать?» – должен уметь ответить на эти вопросы с величайшим тактом, ибо каждое слово ответа будет подобно прикосновению пальцев скульптора к глине, из которой тот ваяет свою модель.
– У меня такое чувство, о мой Иуда, – сказала она, потрепав рукой по щеке сына, – что все сказанные мною слова были ударами в бою с противником более воображаемым, нежели существующим. Если таким противником является Мессала, то не заставляй меня сражаться с ним в темноте. Расскажи мне, что он говорил.
Глава V
РИМ И ИЗРАИЛЬ: СРАВНЕНИЕ
Молодой израильтянин подробно изложил свой разговор с Мессалой, особо подчеркнув явное презрение последнего к евреям, их обычаям и образу жизни.
Какое-то время мать, опасаясь говорить, молча слушала его рассказ, совершенно ошеломленная услышанным. Иуда отправился к дворцу на Рыночной площади, ведомый любовью к своему другу юности, которого он рассчитывал найти совершенно таким же, каким он был при их расставании несколько лет тому назад; но человек, которого он увидел перед собой, вместо того чтобы вспоминать былые приключения и спортивные успехи, был полон планами на будущее и говорил о славе, которую предстоит снискать, о богатстве и власти. Ошеломленный услышанным, юноша покинул своего бывшего друга с уязвленной гордостью, но и с взыгравшими в его душе природными амбициями; но она, исполненная материнской заботы, поняла это и, не зная, куда может привести ее стремление успокоить сына, стала в своем страхе за него истинной еврейкой. Что, если соблазн мирской славы отвратит его от веры отцов и дедов? Это было бы ужасно. Она видела единственный способ избежать этой опасности и взялась за решение задачи с энергией, усиленной любовью к сыну до такой степени, что речь ее приобрела мужскую силу, а временами – и поэтическую страсть.