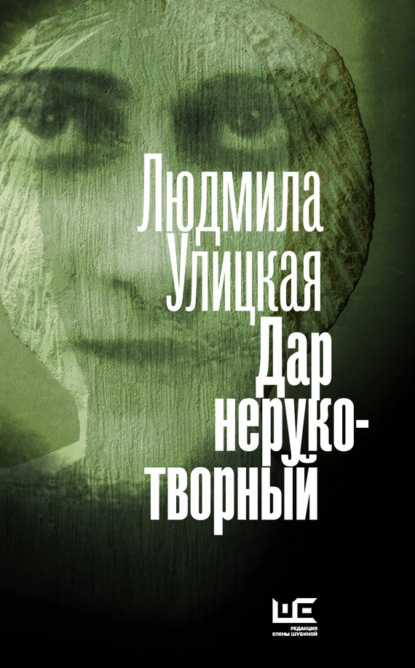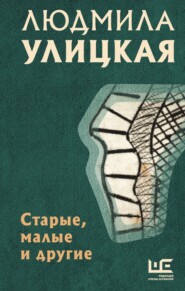По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дар нерукотворный (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Первым делом надо все обойти и хорошенько рассмотреть. Заметь себе для памяти, у кого самый лучший товар. Второй круг – ты уже знаешь, у кого самое лучшее, – теперь ты интересуешься ценой. А с третьего раза покупаешь, и никогда никакой ошибки ты не сделаешь.
И Генеле с пылающими глазами летала по рынку, приглядываясь, ругала товар, хвалила погоду, какой-то толстой украинке, спешащей на поезд, желала доброго здоровьечка, успела обозвать унылого длиннолицего восточного человека «сумасшедшим на всю голову»; она размахивала руками, теребила петрушку, мимоходом объясняла Гале, что морковь надо выбирать только с круглым кончиком, мяла увядший баклажан, нюхала острым носом огурцы «с пипырышками», как она их называла, ругала засол, растирала между большим и указательным пальцами каплю меда и шептала племяннице:
– Чистый мед впитывается весь, без остатка, а если остаток, значит, нечистый!
У простенькой подмосковной бабушки она купила морковь, свеклу и две репки за половину уже сниженной цены, а в придачу получила еще и последний кривой кабачок, который отложила в свою сумочку, считая его законной комиссией за покупки, которые оплачивала Галя.
– Мне нужно сто пятьдесят грамм, – требовала она у продавщицы, но та, не привыкшая обращаться с такими малыми количествами, сбросила с ножа на весы тонкий пласт слоистого творога, который весил почти триста.
– Зачем мне столько, мне нужно сто пятьдесят! Неужели я не могу взять сколько мне нужно, а? – настаивала она, и флегматическая продавщица заворачивала в белую бумагу творог и презрительно ворчала:
– Да ладно уж, я не обеднею.
А Генеле, победно глядя на Галю, шепотом вещала:
– Ну, ты понимаешь? Голову надо иметь! Голову! Я же вижу по ее повадке, она такая ленивая, что ей лень даже обратно отложить. А сто пятьдесят грамм они вообще положить не могут, всегда больше!
Галино бледное лицо покрылось красными нервическими пятнами, она умоляла уйти, но Генеле вошла в раж. Она хотела показать свой талант в полном блеске и, увлеченная, уговаривала продавщицу из базарной кулинарии скинуть ей полтинник на казенном гуляше.
Галя всю жизнь с ужасом вспоминала тот поход, рассказывала о нем своим дочерям. Тетушкины высказывания того базарного дня вошли в семейные устоявшиеся шутки. При упоминании моркови обязательно кто-нибудь из домочадцев спрашивал: «С круглым кончиком?», огурцы назывались «пипырчатые» или «совершенно не пипырчатые».
А жила Генеле в глубочайшей нищете. Впрочем, если бы кто-нибудь ей намекнул на это, она бы удивилась. Потому что она жила именно так, как хотела. Среди бесчисленного множества людей, живущих вынужденно, связанных разного рода узами, она была так независимо одинока, что даже свои родственные визиты рассматривала как дань людям, которые нуждаются в общении с ней, в ее советах и наставлениях.
Ее бедность несла монашески-радостный оттенок, чистота в ее длинной одиннадцатиметровой комнате была праздничной и даже вызывающей: так жестко топорщилась белая накрахмаленная салфетка на маленьком столике с провощенными ножками, медицински пласталось белое покрывало, так официально-приветливы были суровые чехлы на двух белых стульях.
В гордой своей нищете она неукоснительно выполняла свой главный принцип – покупать все самое лучшее. Поэтому, не ленясь, она отправлялась через день в Филипповскую булочную и покупала там лучший в мире калач – ей хватало его на два дня. Потом она заходила в Елисеевский и покупала там сто граммов швейцарского сыра. Относительно сыра у нее было подозрение, что бывают сыры получше. Но здесь, в России, лучшим был этот самый швейцарский, из Елисеевского.
Остальную пищу составляли гречневая и пшенная каши, про которые она скромно говорила, что лучше ее никто не умеет их готовить. Это было похоже на правду. Заправляла она свои каши постным рыночным маслом и съедала за обедом четвертинку яблока или луковицы или маленькую морковку с круглым кончиком.
В год раз, на Пасху, она покупала курицу. Собственно, эта курица и была Пасхой. В день покупки она вставала на исходе ночи, долго и тщательно собиралась, в крепкую шелковую сетку засовывала черную витую веревку и стопку газет и в пять утра отправлялась из дому. Первым трамваем она доезжала от Покровки до Цветного бульвара и приходила на Центральный рынок минут за двадцать до его открытия. Долго, иногда часа два она ждала «своего» продавца, одноглазого бурого еврея, промышлявшего редким по нынешним временам делом – торговлей живым квохчущим товаром. Видимо, как и у Генеле, у продавца были свои прихотливые законы жизни. Так, он не любил выкладывать на прилавок больше одной курицы. Генеле, со своей стороны, подчиняясь своему закону, не могла купить курицы, даже самой великолепной, не ощупав подробнейшим образом всех остальных.
Она поджидала, пока старик неторопливо отпарывал толстую серую тряпку, пришитую к большой овальной корзине, и, запустив руку, не глядя вытаскивал за связанные ноги первую курицу. Генеле опиралась локтем о прилавок и говорила равнодушным голосом человека, случайно проходившего мимо:
– А-а, явился, не запылился… Это что, курица?
Одноглазый не удостаивал ответом.
Генеле, прижимая покрепче локтем левой руки антикварную свою сумочку, принималась за курицу. Более всего ее манипуляции напоминали серьезный медицинский осмотр. Она заглядывала курице в остановившиеся глаза, раскрывала клюв, исследовала горло, ощупывала грудку и зад. Разведя ей крылья, она, казалось, просматривала своим рентгеновским взглядом ее птичью душу. Потом небрежно отодвигала ее.
– И это все, что у тебя есть? – пренебрежительно спрашивала она.
Одноглазый молча опускал руку в корзину и вытаскивал следующую…
– Что это ты мне показываешь? Сразу убери! – обижалась Генеле.
И продавец, поджимая и без того узкие губы, прихватывал под прилавком еще одну…
Она выбирала ее – как невесту единственному сыну. С трепетом великой ответственности и страхом перед непоправимой ошибкой. Она помнила о своем необъяснимом пристрастии к черно-серым пеструшкам и старалась сохранять объективность, чтобы пристрастие это не исказило точности выбора. Ведь достойнейшей избранницей могла оказаться и белая, и ржаво-коричневая.
Старик испытывал к въедливой покупательнице внутреннее раздражение, смешанное с возрастающим уважением. Он тоже понимал в курах – в отборных, кормленных чистым зерном почтенных пасхальных курах. Он понимал, что старуха выберет действительно лучшую, и про себя прикидывал, какую же она выберет. Он помнил ее уже много лет и знал, что она не ошибается.
Избранница наконец определялась. Состоялся долгий торг. Генеле доставала из заветной сумки новые деньги, и царская невеста, сохраняя неестественное положение вниз головой, переходила в руки Генеле, которая заворачивала ее во многие газеты, потом в чистую белую тряпку, потом в сетку и, наконец, в хозяйственную сумку.
После всех этих манипуляций Генеле ехала в Малаховку к резнику, выстаивала очередь из двух десятков единоплеменниц к сарайчику на задах двухэтажного солидного дома, сдавала на руки маленькому толстому еврею в ермолке бессловесную жертву и ожидала, пока резник прочтет над курицей короткую извинительную молитву и выпустит на волю ее глупую птичью душу, обитающую, как говорили, в небольшом количестве крови, толчками не остановившегося еще сердца изливающейся на цинковый поднос.
Вся сложная вера предков, многочисленные ограничения и запреты, потерявшие за тысячелетия их некогда рациональный смысл, была связана у Генеле с этой безмозглой чистенькой птицей, олицетворяющей собой пасхального агнца…
Впрочем, на этом месте все уподобления заканчивались, поскольку начиналась суетная кулинария. Одна-единственная курица в ее умудренных руках превращалась во множество яств: бульон с клецками из мацы под названием «кнейдлех», и фаршированная шейка, и куриные кнели, и паштет из печенки, и даже заливное. Как это ей удавалось? Удавалось… Между куриными делами и рыба фаршированная образовывалась, и кое-какие в меду сваренные орешки из теста.
А потом она все паковала в баночки, в кастрюльки. Что надо теплым, то укутывала. Все увязывала, уплотняла газетными валиками, чтобы не опрокинулось, и везла к брату Науму отпраздновать Пасху. Бутылку кагора покупал брат.
Он был дважды вдовым непроходимым неудачником. После смерти первой жены, умершей рано, он женился вторично, чтобы новая жена растила его не взрослых еще детей, но она скоро заболела каким-то зловредно-медленным раком и годами умирала, не принося семье пользы, а, напротив, истощая последние Наумовы силы на бесплодное сострадание. Невезучесть его распространялась и на детей, особенно на сына Григория, который родился удачным и здоровым, но претерпел сильный удар электричеством и с тех пор стал слабоумным.
В этот бедующий дом и относила Генеле свои пасхальные дары, чтобы, отслушав наскоро читаемую Наумом известную историю исхода из Египта, не спеша посидеть за праздничным столом и насладиться мудрым миропорядком, в котором отведено место и суетным хлопотам, и достойной праздничной трапезе, и Единому Богу с его посыльным Ангелом, обходящим, как письмоносец, дома детей избранного народа, и слабоумному Григорию, радостно улыбающемуся всем своим блестящим от куриного жира лицом…
И вот в тот самый день, о котором идет речь, Генеле с тремя сумками, наполненными пасхальной снедью, вышла из подъезда своего дома, намереваясь ехать к Науму, и повернула не в ту сторону. Она дошла до угла, поискала глазами трамвайную остановку – и не нашла ее. Она не узнавала перекрестка, чуть ли не с детства ей знакомого.
– Боже! Как я попала в чужой город! – ужаснулась она и стала медленно падать, крепко прижимая к себе коричневую сумочку и не выпуская из цепких пальцев драгоценных авосек.
Так, вместе с авоськами и сумочкой, и привезла ее «скорая» к Петровским воротам, в приемный покой бывшей Екатерининской больницы.
С Генеле случилось ужасное: весь простой, прочный и разумно устроенный мир утратил внутренние связи и стал неузнаваемым. Она видела радужную оболочку зеленовато-пестрого глаза склонившегося над ней врача, блестящий излишком крахмала ворот белого халата, щетину, проросшую на смуглой щеке за суточное дежурство, шероховатости белой крашеной стены, бок шкафчика для медикаментов и переплет окна, но детали эти были разрозненны и общей картины из них не слагалось.
Генеле все хотела додумать, силилась выложить словами ускользающую мысль, но не могла. Осталось у нее только чувство, что она, маленькая, заблудилась, потерялась, и ей надо спешить куда-то по делу великой важности. Сумки у нее отобрали, и она все шевелила пальцами левой руки, потому что в руке было ощущение, что чего-то не хватает.
Обиженная, ограбленная, маленькая Генеле лежала на узкой кушетке, испытывая мучительное недоумение. Вопросов, которые ей задавали, она не слышала. Пожилая медсестра раскрыла ее коричневую сумочку и пошарила в ней длиннопалой рукой. Взгляд Генеле упал на сумочку, и она заплакала медленными слезами.
Медсестра вытащила из сумочки завернутую в темную бумагу баночку с кремом, связку мелких ключей и поношенный паспорт. Генеле была опознана.
Ее положили в неврологическое отделение, в бокс. Беспокойство все нарастало. Бедная Генеле ничего не узнавала, словно враз забыла всю свою жизнь. Когда нянька принесла ей воды, она не сразу вспомнила, как надо глотать. Набрала воду в рот и мучительно застопорилась. Опытная нянька постучала по горлу, и она проглотила.
Два врача в ординаторской обсуждали, какой именно участок мозга у нее поражен. Один считал, что имеет место кровоизлияние в ствол, второй полагал, что кровоизлияния нет вообще, а произошел сильный сосудистый спазм с нарушением мозгового кровообращения.
Пока молодые врачи обсуждали этот медицинский казус, в голове у Генеле немного посветлело, мучительная чехарда из бессвязных картинок внутри и снаружи замедлилась, и из нее выплыл один-единственный образ вместе со словом, к нему относящимся. Это была сумка. Не сумка вообще, а та самая, коричневая. Она сказала довольно громко:
– Сумка! Сумка!
И глаза у нее были умоляющие.
– Я же говорил: спазм, – с торжеством сказал один из врачей, – речь-то сохранена!
До самого глухого часа ночи она кричала то единственное слово, которое у нее еще оставалось. Она пыталась вскочить, бежать, дергалась и металась. Чтобы она не упала с кровати и не разбилась, ее обвязали сеткой.
А сумка как будто была уже у нее в руках, и она не хотела ее отдавать и все кричала: сумка! сумка!
И знала – чем громче она кричит, тем больше принадлежит ей эта кожаная ветошь с извилистым узором на роговом замке.
А ласковый и печальный голос кого-то знакомого все говорил ей: