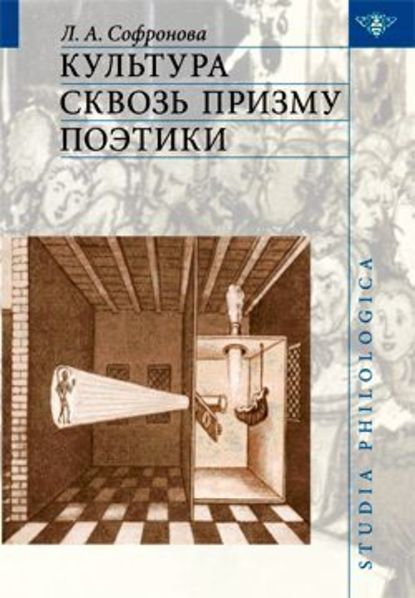По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Культура сквозь призму поэтики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Художественные и исторические ориентиры Красиньского – это средние века. «Свои идеалы романтизм поместил в средневековье. Нельзя говорить здесь о сходстве этих двух эпох – на них следует взглянуть иначе: средневековье есть как бы подсознание и надсознание романтизма, это экстраполяция идеала, мечта романтизма о самом себе, но мечта, которая знает, что она мечта» Qanion, 1981, 11]. Одновременно поэт перенес часть действия «Комедии» в будущее. Через нее проходит тема времени: «Кто хочет предчувствовать, пусть вспоминает». Ее герои находятся в особых отношениях с ним. Панкраций, например, калечит время, за что его из него и «исключают».
Поэт полагает, что человечество должно пережить две катастрофы. Первая уже произошла. Она относится ко времени Рождества Христова, когда был сокрушен старый мир и слово Христа стало законом. Погибли все – и варвары, и римляне, но вера осталась. Теперь близится вторая катастрофа. «И стопа Бога, коснувшись земли, приведет ее в смятение и дрожь, как когда-то, во время первого пришествия», – писал Красиньский в вышеназванном отрывке. Он рисовал странные картины будущего, угрожая, что короны скоро рассыплются, как сухие листья, а огромные страны превратятся в кладбища без надгробий. Только тогда в сиянии явится на землю Христос. Красиньский предвидел апокалиптические разрушения, но страстно ждал наступления «третьего неба на земле», на которой пока находятся только ад и чистилище. Он верил в эру всеобщей любви и потому призывал беречь планету.
Его видения подчинены исторической теме. Она пронизывает все творчество Красиньского. Он разделял веру в исключительность родины, которая смешивалась с политическими иллюзиями, чисто поэтическими преувеличениями, и в этом синтезе, в котором превалировала концепция избранничества народа польского, явно сквозила патриотическая идея. Красиньский возражал против бесконечности истории. Он полагал ее конечной как и многие философы и историки его времени. История стремится не к земному граду благополучия, а к Царству Божию, считал он. Признавать бесконечность истории – значит отрицать это Царство. Красиньский в своей «He-Божественной Комедии» и в «Иридионе» воплотил эту концепцию.
На страницах «He-Божественной Комедии», точнее, в «Первой части Комедии», в эпизоде «Венецианские подземелья», являющемся аллегорическим завершением всей «He-Божественной Комедии», возникает образ страдающей Польши. Она и обступающие ее персонажи утрачивают приметы реальности и становятся абсолютно условными фигурами символико-аллегорического театра. Они ведут спор об истории и участии в ней человека, о христианской любви в абсолютно театральных декорациях. Ход истории здесь знаменуют висячие сады Семирамиды и обсерватория Вавилона, сфинксы и пирамиды Египта, море и храмы Греции, появляющиеся и быстро исчезающие, как картины сновидений. Центральной темой данного эпизода выступает тема родины, разъятой на части.
Аллегорически образ Польши передается в неясном, мерцающем кладбищенском пейзаже, где деревья и кресты почти что сливаются и с трудом распознаются. Они утрачивают свои очертания и как бы перетекают друг в друга. Это движение не прекращается, так как и деревья, и кресты принимают человеческий облик. Теперь сосны-тела заполняют кладбище, кресты становятся распятыми людьми. Они испытывают муки, страдают, и это – страдания всего народа. Переживают превращение, носящее знак смерти. Оно послано не только каждому человеку, но и всему народу: «Kazdy niesmiertelny musi sie jej dotknac. – Kto jej nie zniоsl, ten zginal na zawsze <…>. Narоd caly w Chrystusowej mece rozwieszon nad wlasna ziemia swa» [Krasinski, 1973, 461] – «И каждый бессмертный должен ее (смерти. – Л. С.) коснуться. Кто не вынесет этого, тот погибнет навсегда. <…> Весь народ в муках Иисуса повис на крестах над своей землей». Под этими крестами стонут и плачут женщины и дети, и их белые одежды орошает кровь мучеников. Эту композицию, аллегорически соединяющую смысл отечественной истории и божественной, осеняет фигура распятого Христа, проступающая на небесах.
Перед нами своего рода живая картина. Ее зритель – Юноша, который произносит слова о том, что из боли воскреснет дух, но из подлости нет воскресения. После этих слов закрывается занавес из туч, и все исчезает – и мрачный кладбищенский пейзаж, и небеса. На Голгофе убили Бога в человеке – в Польше убивают человечество в народе, но Европа не воскреснет без поляков. Без них она – как без сердца. Пока же Польша еще не воскресла, и муки ее продолжаются.
Историческая тема, принимающая сакральные очертания, звучит в финале «Комедии», в ее IV части. Здесь вера сливается с историей. Спор двух антагонистов, Хенрыка и Панкрация, решает Провидение. Ранее Бог был безучастен к катастрофе, в которой люди сами были повинны. Они пытались изменить историю, что привело их к краху. Теперь наступает равновесие между божественной и человеческой энергией. Становится ясно, что ничто в движении истории не может быть случайным, что все предопределяет, всем движет Бог, «абсолютный свидетель». Он свидетельствует «от имени вечности, причем о всей и всякой истории» [Михайлов, 1989, 91]. В предыдущих частях «Комедии» поэт показал, как человек пытается подчинить себе историю, теперь он сам и история подчиняются божественному миропорядку.
Однажды Красиньский сказал, что «история есть собрание всех деяний духа человеческого, из которого следует то, что Бог мыслит на небесах, а люди должны думать, понимать и совершать поступки в юдоли земной» [Krasinski, 1973, 62–63]. Эту мысль он воплотил в последней части «He-Божественной Комедии», где Бог судит историю, и на этом суде погибают оба главных героя – Хенрык и Панкраций. Над их историческими судьбами возносится крест, появляется сам Иисус.
Крест – организующий символический центр заключительной части «Комедии». Его исключительная глубина и насыщенность, способность подчинить себе и организовать практически все тексты культуры позволила поэту придать финалу своего произведения явную сакрализованность [Топоров, 1979, 116, 117]. Известно, как он был потрясен, увидев крест в Колизее. Он вспоминал о нем не раз во многих письмах, оформлял эти воспоминания в прозе и поэзии, ввел их и в «Не-Божественную Комедию»: «Я видел этот крест, богохульник, в старом, старом Риме – у подножия его лежали развалины более могущественные, чем ты, – сто богов, подобных твоему, валялись в пыли и не смели поднять к Нему искалеченных своих голов, а Он стоял высоко, простирая святые рамена свои на восток и на запад, окуная святое чело свое в лучи солнца, – можно было узреть, что Он – властитель мира» – Widzialem ten krzyz, bluznierco, w starym, starym Rzymie – u stop Jego lezaly gruzy potezniejszych sil niz twoje, – sto bogоw, twemu podobnych, walalo sie w pyle, glowy skaleczonej podniesc nie smialo ku Niemu – a On stal na wysokosciach, swiete ramiona wyciagal na wschоd i na zachоd, czolo swiete maczal w promieniach slonca – znac bylo, ze jest Panem swiata» [Krasinski, 1973, 392].
Чудесное явление креста – известный сакральный мотив, основным выражением которого является видение императора Константина. Крест явился ему перед битвой, сопровождаемый произнесенными или написанными словами: In signo vinces. Обычно явление креста соединяло земную власть и силу с христианской верой, знаменовало их неразрывность [Бадаланова, Плюханова, 1987]. Хенрык видит самого Спасителя во тьме вечной пропасти. Его снежно-белая фигура высится над ней с крестом в руках. Он над жизнью человеческой и над историей. Видение это возникает сразу после битвы, но не означает победу кого-нибудь из противников. Этот крест ее не знаменует. Здесь победитель – сам Христос. Он торжествует победу веры над безверием, победу духа. Видение Христа является не только Хенрыку, но и Панкрацию: «Jak slup snieznej jasnosci, stoi ponad przepasciami – oburacz wspart na szabli msciciel. – Ze splecionych piorunоw korona cierniowa» [Krasinski, 1973, 416] – «Как снежнобелый столп, Он стоит над пропастью, опираясь обеими руками на крест, как мститель на саблю. Из сплетенных молний его терновый венец». В связи с этим эпизодом можно вспомнить поэму Блока «Двенадцать». Панкраций, ослепленный неземным светом, с воплем: «Тьмы, тьмы!» летит в пропасть. «Ты победил, Галилеянин!», – восклицает он перед смертью, повторяя слова Юлиана Отступника. Это – возглас истории, смирившейся перед Богом.
Красиньский не позволяет этому герою уйти из жизни, не прозрев. Прозрение ослепляет его, а затем убивает. Оставшись жить, Панкраций остался бы вне веры. Так Бог входит в историю и в жизнь человека. Потому данный эпизод, пронизанный сакральным началом, не означает отрицания истории, которую поэт называл самой совершенной поэмой, в которой хотел видеть движение к Богу, но никак не прогресс. Вне этого движения история есть наказание за преступления, совершаемые человечеством. К ним ведет бездуховность. Попытаемся сравнить эту мысль поэта с концепцией Л. Карсавина, который полагал, что за всеми физическими воздействиями скрываются психологические факты, которые для историка только и существенны: «Не развитие крупного землевладения, крепостнических отношений, не количество рабов является предметом истории, а то, что за всем этим скрывается, социально-психическое» [Карсавин, 1923, 97]. Здесь видится явное сходство. Только Карсавин замечает социальное, а Красиньский настаивает только на божественном начале, пронизывающем историю. Оба автора при этом выделяют категорию духовного.
Польский поэт оптимистически взирает на написанную им катастрофу, ибо за ней грядет Царство Божие на земле. В этом понимании историй Красиньский был не одинок. «Мессианизм помещал проблему народа в божественный миропорядок, т. е. в перспективу целей, заданных Провидением, а не природой или историей» [Inglot, 1977, 70]. Оба героя «Комедии» терпят поражение в битве с историей, которая снова в руце Божией. «Это означает, что не было правды ни на стороне Графа, ни на стороне Панкрация, она была над ними; и вновь появляется она, чтобы их покарать» [Mickiewicz, 1955, 11, 109]. Провидение вновь ведет историю, над которой не властны люди. Эта идея в «Комедии» не однотонна. Красиньский не только верит в то, что люди постоянно прислушиваются к гласу с неба. Он явно усматривает возможные колебания между царством Духа и царством Кесаря, по терминологии Н. Бердяева. Предчувствует «торжество дьявольской силы», о чем говорит название «Комедии», а также «прогрессирующее раскрытие, торжество Божией доброй силы» [Бердяев, 1990, 244, 245]. «Человеческая история для Красиньского – не божественная, она – результат неправильного распоряжения свободой. Из истории, из человеческих деяний, не основанных на Боге, может родиться только наказание за преступление, но не начало новой жизни, „новой Эпохи“, не „новый, огромный мир“» [Janion, 1971, 166].
Для того, чтобы слить воедино сакральное и светское, религию и историю в ее самой резкой форме, т. е. революцию, Красиньский тщательно выписывает пространство, в котором разворачивается финальная часть «Комедии». Ее пролог сразу намечает движение к сакральному. Под его сенью разворачивается действие и разрешаются все конфликты в финале. Его действие происходит в последнем пристанище верующих. Здесь собрались защитники прошлого. Их собрание на миг становится последним сеймом. Один из них кричит: Не позволю! Сакрализации пространства способствует образ старинного замка, сросшегося со скалой, над которым развевается знамя как символ славного прошлого польской истории. В какой-то момент герой попадает в темницу, полную орудий пыток. Здесь царство смерти: молчат гробы, темно и тихо. Таинственный хор произносит слова, осуждающие Хенрыка на вечные муки за то, что он никого не любил в жизни и не почитал.
Не только замок, свидетель истории, но и долина, его окружающая, принимает сакральные очертания. Она начинает походить на ту долину, где будет вершиться Страшный суд. Упоминания о нем звучат постоянно, как бы создавая лейтмотив всей финальной части «Комедии». Долина эта покрыта мраком, в ней толпятся люди, она «забита головами людскими, как дно морское камнями» – «Dolina cala zarzucona glowami ludskimi, jako dno morza glazami» [Krasinski, 1973, 396]. Именно в этой долине сражаются Хенрык и Панкраций. Она меняет очертания и преображается в поле, усеянное трупами, и будто рушится под ногами. Это заставляет героя вспомнить о конце света, о том, что вечность – это зияющая чернота, без берегов и островов. Его даже посещает кощунственная мысль о том, что нужно быть Богом или никем. Но затем он осознает, что над пропастью вечности светит солнце. Оно неожиданно освещает всю людскую массу, стекающуюся в долину. Хенрык замирает над пропастью. В этой его позиции выявляется положение романтического героя, вечно балансирующего на границе жизни и смерти, поэзии и правды, любви и равнодушия. Он осознает, что «посреди ее Бог, как солнце, что вечно горит, сияет и ничего не освещает» – «A posrodku jej Bоg, Jak slonce, co sie wiecznie pali – wiecznie jasnije – a nic nie oswieca» [Там же, 412]. Так в «He-Божественную Комедию» вторгается мотив кощунственный, мотив потенциальной десакрализации. В культуре всегда происходит процесс, обратный сакрализации. Чтобы отрицать, нужно сначала верить. Потому вопрос о соотношении Бога и истории, доминантный в эпоху романтизма, как бы рассматривается здесь с противоположной стороны. Романтики сопротивлялись социологизации жизни, подмене теологии развивающейся социологией. Они уже предчувствовали, что произойдет, когда «религиозное чувство потерявшего веру человечества» направится «на социальность» [Бердяев, 1990, 139]. То же можно сказать о Красиньском.
Выстраивание истории по вертикали, соединение земной истории с небесами, явление Бога отнюдь не в роли Deus ex machina – вот основной замысел Красиньского. Он создал произведение о духе, провел его через испытания историей, чтобы утвердить в вечности. Дух этот выходит возрожденным из исторических катаклизмов, ибо существует всегда в развитии и противоборстве – как в своей надмирности, так и в земных формах.
* * *
Оппозиция сакральное / светское проступает и в том случае, когда в литературные и драматические произведения светского характера вторгаются отдельные религиозные мотивы. Они соприкасаются со светским началом, как бы настаивая на том, что могут стать смысловой основой произведений, в которые они вошли, и непременно воздействуют на его статус.
Молитва, икона, храм в русской поэзии
Религиозные мотивы в изобилии присутствуют в русской поэзии XIX–XX вв. Ахматова однажды сказала: «А в Библии красный кленовый лист / Заложен на Песне Песней» [Ахматова, 1990, 1, 83]. Заложен этот лист не только на страницах упомянутой поэтом книги. Мотивы Ветхого и Нового Завета пронизывают русскую поэзию. Они встраиваются в стихотворения на самых различных основаниях.
Возможно, что весь поэтический текст строится на сакральном слове, соответственно, пережившем трансформации. Таковы многочисленные молитвы в русской поэзии. Кроме того, сакральный круг культуры бывает объектом художественного воспроизведения, что придает произведениям оттенок сакральности, но не переводит их в разряд сакрализованных. Наиболее часто устойчивыми мотивами выступают молитва, икона и храм.
Молитва в поэзии всегда узнаваема. Она есть воззвание к вышним силам, к Господу и к Богородице. Выстраивается она как самостоятельное произведение, в котором священное слово перелагается в поэтическое. Поэт проявляет при этом определенную степень свободы в обращении с каноническим текстом. Так поступил Пушкин с молитвой Ефрема Сирина в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны…». Приведем его полностью: «Владыко дней моих, дух праздности унылой, / Любоначалия, змеи сокрытой сей, / И празднословия не дай душе моей. / Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, / Да брат мой от меня не примет осужденья, / И дух смирения, терпения, любви / И целомудрия мне в сердце оживи» [Пушкин, 1949, 13, 373]. Вот молитва Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
Пушкин сохраняет обращение к Господу, перечисляет те же грехи человеческие, о которых говорит Ефрем Сирин, но не просто их называет. Праздность у него стала унылой, т. е. праздность и уныние совместились. Любоначалие получило метафорическую дефиницию – змея сокрытая. Только грех празднословия перенесен в пушкинское стихотворение в неизменном виде. Поэт просит не дать их его душе. У Ефрема Сирина сказано просто: не даждь ми. Пушкин после первой части молитвы обращается к ее заключению, или третьей части, и заканчивает стихотворение второй, прося о духе целомудрия, смирения, терпения (смиренномудрия у Ефрема Сирина), любви. Так великий поэт сумел вместить в свое произведение текст молитвы почти что в неизменном виде, сохранив ее лексику и семантику, ее торжественные интонации.
Лермонтов предпочитает вариации на темы молитв. У него молитва превращается в особый поэтический жанр, не утрачивающий связей со своей первоосновой. Одну из его молитв, «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…», Даниил Андреев однажды справедливо назвал лирическим акафистом. Образ, символизирующий Богоматерь, воспринимается поэтом (лирическим героем) как теплая заступница мира холодного. Лермонтов напрямую обращается к Богоматери, как всякий христианин, возносящий молитву. Икона выступает здесь в функции замещения. Святому образу и самой Богоматери поэт адресует свои слова.
Лермонтов не только создает свои молитвы, но и раскрывает значимость обращения к вышним силам: «С души как бремя скатится, / Сомненье далеко – / И верится, и плачется, / И так легко, легко…» [Лермонтов, 1948, 1, 89]. Говорит о непонятной прелести и благодатной силе молитвы, о том, что ее слово – это слово живое, способное придать человеку духовные силы. Поэт вступает в диалог с Богом, противопоставляя смирение веры творческому порыву, что свидетельствует об устойчивой романтической концепции поэта-творца, поэта-богоборца. Лирический герой уверяет, что только тогда обратится к Господу, когда он превратит его сердце в камень и остановит голодный взор: «Тогда на тесный путь спасенья / К Тебе я снова обращусь» [Там же, 133]. Есть у Лермонтова и пародийная «Юнкерская молитва»: «Царю небесный, спаси меня / От куртки тесной / Как от огня» [Там же, 314].
Молитвы необязательно бывают развернутыми поэтическими высказываниями. Встречаются они в неполном усеченном виде, например, у Блока во «Вступлении» ко второму сборнику «Нечаянная радость». В рукописи оно было озаглавлено «Молитва». Во «Вступлении» содержатся слова из «Отче наш»: «Да святится Имя Твое!», из кондака молитвы «О умерших», но в трансформированном виде. Поэт переносит слова молитвы на самого себя: «Со святыми меня упокой». У Ахматовой в стихотворении «Молитва» («Дай мне горькие годы недуга, / Задыханья, бессоницу, жар…») инвокация только намечена, но не разработана, что свидетельствует об отходе от канона. В «Эпилоге» ее «Реквиема» отмечен лишь акт обращения к Господу: «И я молюсь не о себе одной, / А обо всех, кто там стоял со мною /Ив лютый холод, и в июльский зной / Под красною, ослепшею стеною» [Ахматова, 1990, 1, 202]. Она пишет и свои молитвы: «Я так молилась: „Утоли / Глухую жажду песнопенья! / Но нет земному от земли / И не было освобожденья“» [Там же, 79], в которых проступают моления святого Иоанна Дамаскина, отгонявшего от себя Божий дар слова.
Эта тема актуализируется А. К. Толстым в драматической поэме «Иоанн Дамаскин». Процитируем Даниила Андреева, отметившего «вестнический» дар А. К. Толстого и сказавшего, что в своем «Иоанне Дамаскине» А. К. Толстой сумел «с такой ясностью, обоснованностью, силой и пламенностью» выразить идею о том, «что искусство вообще и искусство слова в особенности может быть выражением высшей реальности, верховной Правды, дыхания миров иных» [Андреев, 1991, 174].
Итак, молитва в поэзии устойчива и неустойчива одновременно. Она может быть явной или скрытой цитатой или вообще не иметь соответствий с исходным жанром. Тогда молитва бывает темой, а авторское произведение – вариацией. Так как молитва существует в произведении как значимый элемент, как ядро семантического поля, то можно сказать, что поэтическая молитва представляет собой не тему с вариациями, а вариации, подразумевающие тему или прямо намекающие на нее.
Цветаева полагала, что этот поэтический жанр, столь развитый в XIX в., постепенно заглох: «Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Все. Стихи к Богу есть молитва. И если сейчас нет молитв <…>, то не потому, что нам Богу нечего сказать, и не потому, что нам этого чего некому сказать – есть что и есть кому, – а потому, что совести не хватает хвалить и молить Бога на том же языке, на котором мы же, веками, хвалили и молили – решительно все. Чтобы сейчас на прямую речь к Богу (молитву) отважиться, нужно либо не знать, что такое стихи, либо – забыть» [Цветаева, 1991, 87–88]. Так явственно проступает тема сакрализации поэзии.
Поэты цитируют не только молитвы, но и слова церковной службы. А. К. Толстой в поэтической драме «Дон-Жуан» цитирует тропарь о умерших. Хор монахов провожает Дон-Жуана в последний путь со словами: «И невольное, и вольное / Прегрешенье отпусти!» [Толстой, 1904, 174], варьируя известное: «Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, яко Благ, прегрешения его, вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче».
Первая строфа второго стихотворения цикла «Венок мертвым» Ахматовой начинается словами псалма: «De profundis» – «Из глубины воззвах к Тебе, Господи!». Она дает следующий эпиграф к стихотворению «Распятие»: «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи» Это слова из песнопения на утрени в Великую Субботу, 9 ирмос. Продолжим его: «Егоже во чреве без Семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия». В этом стихотворении есть отсылки к Евангелию: «Отцу сказал: „Почто Меня оставил!“ / А матери: „О, не рыдай Мене…“». Так цитируются слова Христа: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27. 46) и вновь повторяются слова эпиграфа этого стихотворения. В стихотворении «Защитники Сталина» Ахматова пишет: «Это те, что кричали: „Варраву! Отпусти нам для праздника…“» [Ахматова, 1990, 1, 248]. Эти слова косвенно отсылают к евангельской цитате (Мф. 27. 21).
В цикле Ахматовой «Венок мертвым» сказано: «Мое поколенье мало меду вкусило». «Вкушая вкусих мало меду, и се аз умираю» – эпиграф к лермонтовскому «Мцыри». Может быть, Ахматова вела перекличку с поэтом, но скорее всего эти слова, избранные Лермонтовым как эпиграф, у Ахматовой ведут к Первой книге Царств (1 Цар. 14. 43).
Поэзия не только насыщена молитвами и словом литургии. Иногда первые создатели молитв становятся литературными или драматическими персонажами, как у А. К. Толстого в уже упоминавшейся драматической поэме «Иоанн Дамаскин». Иоанн – это прообраз поэта, в котором явно различимы приметы сакрального. Он мечтает «жизнь смиренно посвятить / Труду, молитве, песнопенью». Он знает, что «служить Творцу – его призванье» [Толстой, 1904, 7]. Но как только старый наставник запретил ему служить Господу словом, он гонит от себя «непетые псалмы», но не выдерживает и, наконец, пишет тропарь. Так весь мир снова наполняется звуками песен Иоанна Дамаскина.
Икона, вобравшая в себя весь комплекс сакральных значений, не просто воспевается или описывается в поэзии. Она и в поэзии выступает главным знаком веры [Тарасов, 1996, 29]. А. К. Толстой в поэме о святом Иоанне Дамаскине наделяет своего героя особым отношением к иконе. Он – «боец за честь икон <…> художества ограда» [Толстой, 1904, 6].
Очень часто святой образ бывает связан с молитвой, как в поэзии Лермонтова. Икона становится у него изображением в слове, чему примером служит стихотворение «Ветка Палестины»: «Заботой тайною хранима / Перед иконой золотой / Стоишь ты, ветвь Ерусалима / Святыни верный часовой» [Лермонтов, 1948, 1, 21]. Видимо, определение, которое получила икона, связано с ее фоном, который, как известно, может быть темным или золотым. Возможно, что ее оклад породил такое определение. Хотя поэт сосредоточивается на пальмовой ветви, привезенной из святых мест, он указывает и другие сакральные предметы: «Прозрачный сумрак, луч лампады, / Кивот и крест, символ святой…» [Там же]. Святой образ не стал здесь толчком для развития религиозного мотива. Его замещает ветка Палестины. Приведенные выше строки явно перекликаются со следующим отрывком из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина: «Лампады свет уединенный, / кивот, печально озаренный. / Пречистой Девы кроткий лик, / И крест, любви символ священный».
В стихотворении Блока «Вот Он – Христос – в цепях и розах», навеянном творчеством художника Нестерова, речь на первый взгляд идет об иконе: «Вот агнец кроткий в белых ризах / Пришел и смотрит в окно тюрьмы. В простом окладе синего неба / Его икона смотрит в окно. / Убогий художник создал небо, / Но лик и синее небо – одно» [Блок, I960, 2, 84]. Последнее слово представляется ключевым для данного отрывка, упоминание об агнце в белых ризах введено в качественно иной контекст. Агнец находится не внутри жилища, где должна бы быть икона, а снаружи – «его икона» смотрит в окно тюрьмы. Образ разрастается, и окладом становится синее небо, а сам образ всем миром: «лик и синее небо – одно». Мир сливается с иконой. Становится он и синим оком: «И не постигнешь синего ока…». Восприятие иконы в этом стихотворении приближается к давно сложившемуся, по которому икона – это мир Божий, святая Русь, которая есть «большая икона» [Тарасов, 1996, XI]. Данное предположение подтверждается дальнейшим описанием природы в этом блоковском стихотворении. От лика Христа – синего неба поэт переходит к пейзажу: «На пригорке лежит огород капустный, / И березки и елки бегут в овраг».
Собрание своих стихов Блок назвал «Нечаянная Радость». Как замечательно написал Даниил Андреев: «Название красивое, но мало подходящее. Нет здесь ни Нечаянной Радости (это – наименование одной из чтимых чудотворных икон Божией Матери), ни просто радости, ни вообще чего бы то ни было нечаянного. Все именно то, чего следовало ждать. Радостно только одно: то, что появился колоссальный поэт, какого давно не было в России, но поэт с тенями тяжкого недуга на лице» [Андреев, 1991, 197]. Для нас же значимо само обращение поэта к иконе, пусть и опосредованное. Он сам интерпретирует свое название следующим образом: «Нечаянная Радость – это мой образ грядущего мира. В семи отделах я раскрываю семь стран души моей книги» [Блок, I960, 369].
Ахматова не раз упоминает конкретные иконы, например, икону Софийского храма: «И если слабею, / Мне снится икона / И девять ступенек на ней» [Ахматова, 1990, 1, 119]. Видимо, имеется в виду, икона Введения во храм. Называет она Смоленскую икону Божией Матери: «А Смоленская нынче именинница, / Синий ладан над травою стелется» [Там же, 166]. В «Реквиеме» сказано: «В темной горнице плакали дети, / У божницы свеча оплыла. / На губах твоих холод иконки, / Смертный пот на челе…» [Там же, 197–198]. Таким образом, икона или называется или изображается в поэтической форме. Не раз поэты касаются правил почитания икон, как Блок в стихотворении «Инок»: «И, подходя ко всем иконам, / Как строгий и смиренный брат, / Творю поклон я за поклоном / И за обрядами обряд» [Блок, I960, 283].
Тема иконы разрабатывается Хлебниковым в «Береге невольников» совершенно в ином ключе. Его внимание притягивает изображение иконы на знамени: «Обвиняю! / Темные глаза Спаса / Белых священных знамен, / Что вы трепыхались / Над лавками / Русского мяса / Молча, / И не было упреков и желчи / В ясных божественных взорах» [Хлебников, 1986,339].
В поэме «Ночной обыск» Хлебникова активно звучит тема иконы. Она становится семантическим центром произведения, насыщает его иконоборческими и богоборческими мотивами. Они дополняются противостоянием старого и нового. Возникающие в поэме религиозные мотивы ни в коей мере не освящают революцию.
Икона неожиданно привлекает внимание Матроса, только что расстрелявшего юношу в доме, где он вел обыск. Матрос удивлен – у него на груди тоже Бог. Священное изображение вытатуировано порохом: «Вон Бог в углу – / И на груди другой / В терну колючем, / Прикованный к доске, он сделан, / Вытравлен / Порохом синим на коже – / Обычай морей» [Там же, 326]. «Бог в углу» – это икона, вызывающая возмущение новых людей: «На самоварную лучину / Его бы расколоть! / И мелко расщепить. / Уголь лучшего качества!» [Там же]. Татуировка явно изображает распятие. Матрос описывает его по-своему: Христос прикован к доске, вокруг его головы терн «колючий». Другого образа Бога в данной ситуации и быть не может.
Буря гневных чувств не мешает Матросу вступить с иконой в беседу, а, может быть, и самим Богом: «Седой! не куришь там на небе? / – Молчит. / Себя старик не выдал, / Не вылез из окопа. / Запрятан в облака <…> / А он в углу глядит / И курит, / И наблюдает» [Там же]. Матрос явно стремится приблизить к себе Господа, но не приблизиться к нему. Его лик окружен облаками, которые для Матроса все равно что окопы. Так сказывается его недавний военный опыт. Он, конечно, не почитает икон, а, напротив, готов уничтожить одну из них. Ведь он уже исповедует новую веру всеобщего братства и тотального разрушения.
Матрос начинает кощунствовать, предполагая, что Бог, как и он, тоже курит. Облака ли кажутся ему клубами дыма, теплится ли лампадка перед иконой или горит свеча – ему все равно. Видимо, все же свеча кажется ему папиросой: «А тот свечою курит…» [Там же]. Свеча находится рядом с папиросой не случайно. Это семантическое противопоставление задает трагический финал всего произведения. Матрос желает не только покурить, но и выпить с Богом: «Бог! я пьян… / Я самогона притащу, / Аракой Бога угощу <…> пей, дядько, там в углу!» [Там же, 328–329].
Кажется, что Матрос пойдет и дальше, но вдруг, пристально рассматривая икону, замечает, что образ как бы просветляется и Бог, как он считает, превращается в девушку: «И девушек лицо у Бога, / Но только бородатое». Его глаза, «глаза передрасветной синевы, / И вещие и тихие, / И строги и прекрасны, / И нежные несказанной речью, / И тихо смотрят вниз / Укорной тайной» [Там же, 327]. Так заканчиваются его святотатственные оскорбления, исчезает желание посмеяться над верой. Теперь он видит в образе тихость и кротость, красоту и строгость и начинает бояться, что Бог сойдет вниз, «взмахнет ресницами, / И точно зажег зажигалкой. / Темны глаза, как небеса, / И тайна вещая есть в них / И около спокойно дышит» [Там же]. Мотив непознанного, мотив тайны, как видим, повторяется, и невозможность приблизиться к Господу, разгадать его тайну, теперь пугает Матроса. Он как бы невзначай снова вспоминает о своем намерении покурить с ним – «точно зажег зажигалкой». Так в поэме подспудно развивается тема всепожирающего огня, который уничтожит, сметет с лица земли не только ту квартиру, где буйствует Матрос, и ее жильцов, но и все святое, что было в прежней жизни.
Можно предположить, что то, как этот персонаж вдруг увидел лик Господа, свидетельствует о том, что он все-таки догадывается, что Бог есть любовь. Но этот его образ затмевается другим: Бог есть судия. Теперь его взор нельзя назвать тихим, он подобен казни. Глаза бога – буревестники, «морские птицы, большие, синие и темные» [Там же]. Они «ныряют на дно души» пьяного Матроса, который будто понимает, что он сделал в этой жизни такое, чего уже никак не отмолить. Поэтому решительно идет в наступление, которое тут же оборачивается желанием быть наказанным. Он просит себе смерти здесь и сейчас, хочет «убитым пасть на месте, / Чтоб пал огонь смертельный / Из красного угла. / Оттуда бы темнело дуло, / Чтобы сказать ему – дурак!» [Там же, 328]. Так вновь звучит тема пожара – «чтоб пал огонь смертельный».
Смерть представляется Матросу довольно просто, но желает он ее принять из рук Господа, которого тут же принимается ругать, – из красного угла на него должно быть направлено дуло. Матрос предчувствует свою гибель и хочет покуражиться перед смертью в последний раз. Так уже заданная иконоборческая тема – Матросу хотелось расщепить икону на лучины – переходит в богоборческую. Она не только содержится в вызывающих оскорблениях вышних сил, но и достигает высшей точки в словах: «Теперь я Бога победить хочу» [Там же, 329].
Здесь Хлебников как бы принял эстафету от богоборческой линии романтизма и снизил ее, передав не вечно страдающему герою, отчужденному от общества или какому-нибудь демоническому персонажу, а «простому» революционеру, в душе которого еще теплится воспоминание о традициях. Вызов, брошенный Матросом Господу, смешивается с обрывками известной ему с детства молитвы: «Иже еси на небеси».
Бог на иконе и Матрос перед ней до сих пор будто вели немой диалог, встречаясь взорами. Как известно, Бог все видит, значит, – и пьяного Матроса. Тот, конечно, не может прозреть Господа и сражается со священным изображением. Выкрикивает всякую несуразицу, но не ожидает, что Бог заговорит с ним, но это случилось. Поэт нашел замечательное определение для его речи. Она – «рыбья», т. е. на самом деле Бог молчит, но матрос слышит его слова, в чем видится тенденция архаизировать представления об общении вышних сил с человеком. Слово Господне, как писал Григорий Сковорода, человек может услышать, но Господь человека – никогда.
Матрос уверен, что Бог «вымолвил слово, страшное слово… И это слово, братья, „Пожар!“» [Хлебников, 1986, 329]. Здесь Господь выступает в ипостаси гневного судии. Матрос и его товарищи погибают в огне, всеочищающем и грозном. Так Хлебников разрабатывает тему Божиего наказания в опоре на икону, которое создает семантический контраст с революционным богоборчеством.
Церковь в поэзии, как и икона, – объект художественного описания, непременно несущий в себе комплекс сакральных значений. Ее присутствие в пейзаже освящает природу, придавая ей новые духовные измерения. Также человек переживает в церкви трудные и счастливые минуты своей жизни. Перед церковью останавливается нищий с протянутой рукой, как у Лермонтова: «У врат обители святой / Стоял просящий подаянья…» [Лермонтов, 1948, 1, 175]. В церкви происходит обряд, как у Некрасова в стихотворении «Свадьба»: «В сумерки в церковь вхожу. Малолюдно, / Светят лампады печально и скудно <…> нет богомольцев, не служба теперь – / Свадьба» [Некрасов, 1988, 131]. Блок делает церковь местом встречи с возлюбленной в стихотворении «Холодный день»: «Мы встретились с тобою в храме / И жили в радостном саду» [Блок, I960, 2, 191]. Пишет он о «глубоких сумерках собора»: «В глубоких сумерках собора / Прочитан мною свиток твой» [Там же, 338]. Это строки из поэтической переписки с поэтом Иваном Рукавишниковым, ответ на его стихотворение: «Вешаю список в притворе храма…». Церковь становится последним приютом раскаявшегося грешника. А. К. Толстой в драматической поэме «Дон-Жуан», посвященной памяти Моцарта и Гофмана, оставляет Дон-Жуана жить после встречи со статуей. Великий грешник заканчивает свои дни в монастыре, о котором сказано лишь: «Монастырь близ Севильи…».
Церковь бывает той сакрально отмеченной точкой, от которой поэт отталкивается в своей медитативной лирике. Ф. И. Тютчев через описание лютеранской церкви и обряда проникает в суть протестантской веры: «Я лютеран люблю богослуженье, / Обряд их строгий, важный и простой – / Сих голых стен, сей храмины пустой / Понятно мне высокое ученье» [Тютчев, 1957, 95]. Пустота, отсутствие икон и всякого декора для поэта – знак священного. Значит, здесь пустота несет в себе значения сакрального.