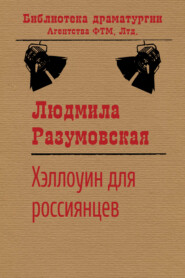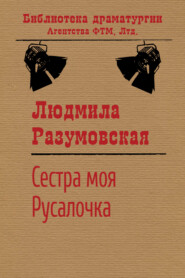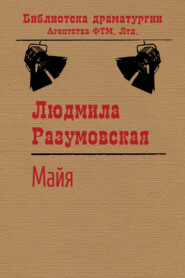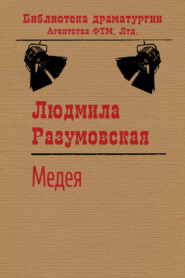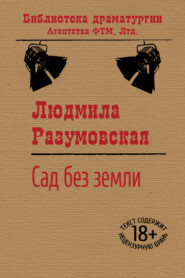По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский остаток
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Справедливости ради скажем, что в своей безжалостности (надо же было во что бы то ни стало остановить вал пораженчества и бегства!) стальной Иосиф (они все были железными, стальными и каменными) был последователен, не сделав исключения и для собственного своего сына, бросив в ответ на предложение немцев обменять Якова на Паулюса знаменитую свою фразу: «Я солдат на генералов не меняю». Можно над этим ответом иронизировать, можно им восхищаться, но, как бы то ни было, сыновья Сталина, как прежде сыновья великих русских князей и царей, воевали наравне со всем народом.
* * *
…Петр шел в колонне из полутора тысяч пленных уже третьи сутки, и третьи сутки им не давали есть. Тех, кто не мог идти от истощения или ран, пристреливали на ходу. Время от времени немцы устраивали для себя импровизированные столовые и с аппетитом обедали, бросая ради развлечения голодным русским хлебные корки или окурки сигарет, страшно веселясь, когда из-за «подарка» устраивалась между пленными чуть ли не драка. Такое поведение «недочеловеков» – славян, по-видимому, казалось арийцам признаком низшей расы, а посему низшей расы нисколько не стеснялись и все свои естественные отправления производили тут же, у нее на глазах.
К ночи они дошли до какой-то белорусской деревни, где уже хозяйничали немцы. Их подвели к деревянному амбару, где им предстояло заночевать, и стали пересчитывать. Есть снова не дали, зато выкатили бочку с водой, и обезумевшие от голода и жажды люди бросились, давя друг друга, к воде. Немцы выходили из себя, пытаясь навести порядок среди этих «грязных свиней», но когда порядка не получилось, просто бросили в толпу гранату. Убитых, а заодно и раненых оставили на произвол судьбы, зато оставшиеся в живых доходяги уже сами послушно выстроились в очередь за кружкой воды. Так цивилизовывали русских.
Утром им все же раздали по куску хлеба, и, пристрелив еще не умерших с ночи раненых, поредевшую колонну повели дальше на запад, в Германию.
Там их вместе с другими военнопленными поместили на огромном футбольном поле. Спали в любую погоду под открытым небом, ели один раз в сутки баланду из свеклы. От голода пленные выедали траву. Началась повальная дизентерия, следом за ней – такая же повальная смерть. Каждое утро приезжала конная фура, умерших ночью вместе с умирающими кидали в телегу, сбрасывали в одну яму, слегка присыпали землей.
Петр старался не есть траву.
В ноябре сорок первого его повезли на юг Германии в обычный концлагерь под Мюнхеном.
Лагерь, в который попал Петр, был отгорожен от других, нерусских лагерей двумя рядами колючей проволоки. Ежедневно пленные из других стран получали продовольственные посылки и письма, наши – положенные немцами пятьдесят граммов непонятного состава, черного, как уголь, хлеба и поллитра баланды. А вместо поддерживавших дух писем из дома им предоставлено было право день и ночь казнить себя за то, что не успели или не смогли покончить с собой, прежде чем попасть в плен, да строить догадки о судьбе своих близких…
Ежедневно их водили на работу: рытье каналов или ремонт дорог. Воскресные дни помимо все той же работы и той же баланды отмечались еще одним мероприятием. По вечерам начальник лагеря выстраивал всех пленных и приказывал рассчитаться на первый – седьмой. Каждого седьмого расстреливали. Дважды Петр оказывался шестым… Да, Господи, он бы не возражал и против седьмого номера, не сегодня, так завтра, какая разница, все одно подыхать! Многие не выдерживали, вешались на железных крючьях, которые немцы, как специально, вбивали в стены бараков. А может, и специально, чтобы лишний раз не марать об эту «животную падаль» рук. А вчера один из доходяг, совсем уж, видать, свихнулся парень, решил исхитриться и получить вторую порцию баланды. Быстренько слопав похлебку из вареной без соли брюквы, снова встал в очередь и не заметил, что недреманным оком надзиратель уже вычислил его безумное намерение и встал возле раздатчика пищи на страже законности и порядка. И когда парень вторично протянул свою миску, немец изо всей силы ударил его палкой по рукам, по груди, спине, еще и еще, упавшего – по голове, почкам и еще по чему попало, краснея и чуть не лопаясь от натуги, входя в раж, пока не забил до смерти…
Этот плен открыл Петру такую истину, что хуже всего на земле быть русским. (Даже украинскому комитету немцы разрешили забирать своих пленных, и часто комиссия, в которой принимали участие и первые русские эмигранты, под видом украинцев оформляла русских, тех, кто особенно нуждался в помощи.) К этому были основания. Не в первый раз стремясь расчленить Россию, немцы зарились на Украину в надежде рано или поздно установить над ней свой протекторат и посему, заигрывая с украинскими националистами, делали послабление и для их пленных. Политика Розенберга вообще сводилась к поощрению национального сепаратизма, способствуя созданию национальных военных противосталинских формирований, в которых по разным подсчетам находилось до двух миллионов человек.
Смерть витала вокруг Петра, у него отнялись ноги, руки, отнялось все, весь его измученный организм отказывался жить. Таких обессилевших, неспособных к работе пленных сваливали в отдельное помещение, где они через несколько дней, не получая никакой медицинской помощи, умирали. Перед тем как попасть в этот смертный барак, Петр увидел сон. Является ему некий старичок, с бородой и уж таким лаской сияющим лицом, что у Петра сердце захолонуло от непонятной радости, и будто похожий на кого-то, будто когда-то им где-то виданный, присаживается к нему тихонько и говорит: «Трудно тебе, трудно. Тяжело, знаю, но надо терпеть. Домой придешь. Но и дома терпеть придется. Ты уж потерпи…» А сам гладит его по голове, гладит… и так сострадательно да любовно на него смотрит… Проснулся Петр в горючих слезах и долго искал глазами вот только что сидевшего тут, на краю его нар, удивительного старичка. Никого не узрев, еще долго не мог успокоиться, всхлипывал, шмыгая носом, и утирал грязными руками глаза, вспоминая только что пережитую небывалую ласку. И до того ласка эта была необычная, словно все его помертвелое существо взяли да и опустили в животворящий родник любви, такая ласка, что и мать родная так не приласкает сыночка, как этот неведомый старичок. И надо же такой благодати присниться! Да только где уж ему вернуться домой! Сон он и есть сон…
На следующее утро кто-то из немецкого начальства спросил:
– Кто умеет ходить за коровами?
Выросший в деревне Петр, пошевелив непослушным языком, смог сказать:
– Я.
Его отвезли на скотный двор к местному помещику, где он немного откормился и не умер с голоду.
На скотном дворе Петр проработал полтора года. Это было счастливейшее время его плена. Картошка, овощи, крупа и даже хлеб были в достатке. Кроме того, общаться с коровами было намного безопаснее и проще, коровы были человечнее людей. Там же, на скотном дворе, он познакомился с украинской девушкой из-под Чернигова, угнанной немцами на работы. Оживший Петр стал ухаживать за Валентиной (у нее тоже имелся где-то пропавший без вести муж), они сошлись. Когда беременность Валентины сделалась заметной, ее куда-то увезли, а Петра перевели работать на шахту. Затем он попал в специальный лагерь, где над заключенными проводились различные медицинские эксперименты. Здесь ему сделали какой-то укол, отчего у него сразу стали выпадать зубы, волосы и ухудшаться зрение. В конце февраля сорок пятого года немцы вдруг занервничали и вскоре вообще покинули лагерь. Трудно сказать, отчего они не перебили заключенных – будущих живых свидетелей их преступлений, скорее всего не успели.
Когда мимо лагеря стали проходить советские войска, весь лагерь плакал от счастья. Но строй за строем шли мимо наши почти уже победившие солдаты, не поворачивая головы в сторону предателей Родины.
Их спасли поляки. Они бросали на ходу шинели на колючую проволоку с пропущенным по ней током, и заключенные перекатывались по шинелям на свободу. Кто-то из поляков бросил кусачки. И вот толпа безногих, безруких, слепых, искалеченных людей без документов, без одежды, без еды, с выколотыми на руках номерами двинулась на восток, на милую Родину, в объятия НКВД.
4
Полковник Шабельский открыл глаза. В желтом солнечном диске на него ясно глядели два больших голубых глаза, а потом медленно проступило и все милое, круглое девичье лицо с легким румянцем и белокурыми кудряшками, старательно убранными под медицинскую шапочку.
– Лена… – счастливо узнавая, скорее подумал, чем прошептал он, почти не размыкая губ. – Леночка… Откуда?..
Нет, нет, он не успел осознать, откуда могла здесь появиться его Леночка, его юная жена, погибшая в двадцатом году в Крыму при наступлении красных. Леночка была здесь, рядом, и этого казалось довольно, чтобы, не размышляя, погрузиться в блаженное состояние расплавляющего сознание счастья.
Он попытался что-то сказать – и уловил тонкий аромат нежной девичьей кожи.
– Хотите попить? – спросила, наклонившись, фея – его Леночка.
Она поднесла к его губам стакан с водой, и он омочил губы.
– Много нельзя, – сказала нежная Леночка и отставила стакан.
Ах как много ему хотелось у нее спросить, узнать: как она жила все эти годы без него и как они очутились теперь вместе; наверное, он уже умер, и они встретились там, где встречаются все любящие души… Он почувствовал, как путаются его мысли, как плохо слушается его язык, и закрыл глаза.
Больше всего ему хотелось сейчас, чтобы Леночка дотронулась своими милыми, легкими руками до его лица. И, словно услышав его желание, она положила свою прохладную ладонь на его разгоряченный лоб. У него была высокая температура после операции на груди – пуля прошла насквозь, задев легкое.
5
Анатолий Викторович Шабельский родился в тысяча восемьсот девяносто пятом году и в силу своего возраста и семейных традиций (все мужчины Шабельские служили в армии), естественно, принимал участие в Первой мировой войне. Как и его отец Виктор Николаевич, погибший в девятьсот пятнадцатом году, как и его старший брат Александр.
Анатолий Шабельский трагически пережил развал армии, начавшийся со знаменитого приказа номер один, этого ублюдочного детища Совдепа, вбившего клин между солдатами и офицерами и уничтожившего русскую армию. Он видел крикливых гражданских болтунов из Петрограда, наводнивших фронты и безнаказанно призывавших солдат к неповиновению офицерам («милитарищикам»), к братанию с немцами и дезертирству для углубления революционных завоеваний. Он видел смерть своих друзей-офицеров, погибших не от суровой руки германцев, но от своих же русских, распропагандированных, потерявших рассудок солдат.
Он видел, как с отречением царя Россия покатилась в пропасть, и падение сие великое уже не могло остановить ни жалкое Временное правительство, ни печально знаменитый истерик Керенский, ни выдающиеся русские генералы, те самые генералы, которые сперва подписались под требованием отречения царя, а после стали на защиту все тех же революционных завоеваний. Словно и впрямь, по слову оптинского старца, вместе с царем должно было погибнуть и Русское царство.
Он видел, как сначала под властью всесильного Совдепа, а потом и большевиков стала распадаться столица, превращаясь в чумной, одичалый, голодный город с праздношатающейся солдатней, с дикими пьяными их оргиями по ночам, с непредсказуемыми и непрекращающимися расстрелами, с вламыванием, грабежом и пальбой в квартирах той самой передовой и мыслящей интеллигенции, еще вчера нацеплявшей красные банты, а позавчера готовивших легкомысленной болтовней и словоблудием революцию. «Мы этого не хотели… Мы хотели не этого!..» Но красный джин, выпущенный наружу, нагло смеялся над ними, в их насмерть перепуганные лица.
С конца семнадцатого года из раненного зверем Петрограда, когда вихрем носилась по городу бешеная тройка – голод, расстрел и смерть, – начался дворянско-интеллигентский исход. И никому еще не было ясно, что власть зверя устанавливается не на месяц, год или два, но на бесконечно долгие десятилетия. Никто не догадывался, что уезжают они навсегда и что отъезд и последующая за ним тяжкая эмиграция – меньшее горе по сравнению с жизнью и смертью в советском «раю» тех, кто надеялся терпеливым пережиданием перехитрить зверя из бездны.
Но и в это апокалиптическое время люди продолжали жить, жениться и выходить замуж, рожать детей.
В конце августа семнадцатого года после неудавшегося военного путча генерала Корнилова (предательски спровоцированного Керенским), который еще мог остановить сползание России в бездну, лейтенант-артиллерист Анатолий Викторович Шабельский женился на миловидной русской барышне с немецкими корнями Леночке, Елене Михайловне Шварцкопф, дочери адмирала Балтийского флота, заколотого восставшими матросами в марте семнадцатого года.
Вдова погибшего адмирала, еще не старая, тучная и болезненная дама, со слезами радости благословила единственную дочь на брак с молодым лейтенантом из хорошей дворянской семьи, приходившейся им, кстати, далекой родней.
Надвигалось что-то совершенно непонятное, громадное и страшное, грозившее разбить в щепки всю их прежнюю такую спокойную и налаженную жизнь, и в преддверии грозных событий ее материнское сердце немного успокаивалось тем, что судьба Леночки, слава Богу, решена, а что дальше – уж это как Бог даст.
После свадьбы молодые отправились к матери Анатолия Викторовича в Ярославль. За несколько дней до их приезда в городе разыгралась трагедия, о которой им рассказал выживший лакей его матери Прохор.
Двадцать восьмого августа по всему городу были развешаны объявления, где всем «буржуям» предлагалось собраться на следующий день к полудню в бывшем губернаторском доме для варфоломеевской ночи, чтобы «избить всех до последнего». Прочитав сие страшное распоряжение, вся интеллигенция города бросилась в бега. Мать Анатолия Викторовича, Антонина Федоровна, проживавшая к тому времени одна с тремя младшими детьми, отправила их вместе с гувернанткой в Николо-Бабаевский монастырь, отпустила всех слуг, сама же не смогла выехать по причине стародавней своей болезни ног. Единственный из слуг, Прохор, не захотел покидать дом и остался разделить судьбу своей барыни, которую глубоко почитал и любил.
Всю ночь Антонина Федоровна молилась и готовилась к смерти. К полудню по городу разнесся дикий вой – толпа в несколько сот человек, одетых в красные рубахи, с испачканными красной краской, как бы кровавыми, руками, вооруженная топорами, палками, ножами, ружьями, бежала к губернаторскому дому. Разгромив пустой дом и не найдя в нем ни одной живой души, толпа еще сильнее взревела и в жажде кровавой расправы побежала дальше, громить следующий.
Прохор встал на пороге и попытался было остановить озверевшую толпу, его отшвырнули в сторону, кто-то походя стукнул его прикладом по голове, и все ринулись по лестнице наверх…
Когда все было кончено, пришедший в себя Прохор поднялся на второй этаж в комнату Антонины Федоровны…
В этом месте своего рассказа он остановился, не в силах нарисовать увиденную картину, задрожал, и вместо слов из его груди вырвалось не то какое-то бульканье, не то рыдание… Тело его барыни было превращено в кровавое месиво.
Через два дня, когда зверства утихли, стали хоронить невинно убиенных. Таких набралось около тридцати человек. Город словно вымер. Обыватели сидели по домам тихо, как мыши, потрясенные варфоломеевской ночью, устроенной их сродниками и знакомцами. Хоронили в гробовом молчании, и только перепуганные батюшки дрожащими голосами выпевали тысячелетнее «со святыми упокой»…
На следующий день Анатолий Викторович с женой поехал на кладбище на могилу матери. Он не плакал, у него только болела голова – он просто не мог вместить произошедшее.
Объявив двум младшим братьям и сестре, что их мать умерла, Анатолий Викторович забрал детей из монастыря, и они все вместе приехали в Петроград.
Между тем голод, холод и разруха в столице становились все ощутимее, большевики – все разнузданнее, наглее и трусливее. Боялись прихода немцев, которых поверженное, оккупированное «товарищами» население ожидало чуть ли не как избавителей. Еще не смеющим поверить в свою легкую удачу победителям всюду мерещилась контрреволюция. Ужесточался террор.