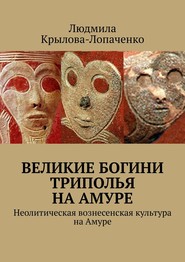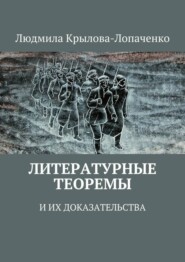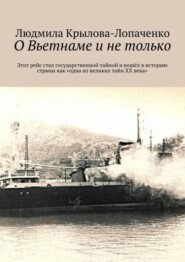По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Герои былых времен
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дочери Ивана Шерого Софья и Екатерина со своими семьями
на могиле отца. Село Вознесенское. 1964 г. Фотографии из архива Б. П. Фомина.
Партизаны и родственники на открытии обелиска И. И. Шерому. 1964 г., с. Вознесенское
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Краевед Амурского района Борис Прокопьевич Фомин одним из первых в нашем районе обратился к краеведческой тематике. Он написал историю села Вознесенского, где много лет был директором Вознесенской школы и преподавателем истории и географии. Рассказал о первых переселенцах, основавших русские сёла Вознесенское и Орловское (ныне не существующее). Большой интерес проявил к древней истории района. Но особенно большую исследовательскую работу в течение многих лет Борис Прокопьевич вёл по истории Гражданской войны на Нижнем Амуре, потому что Вознесенское оказалось в центре драматических событий, связанных с деятельностью партизанского отряда «Морской» и трагической гибелью его комиссара Шерого Ивана Ивановича, похороненного в этом селе.
История отряда «Морской» привела его в село Синда, где в то время ещё живы были старые партизаны, принимавшие активное участие в борьбе с японскими интервентами и белогвардейцами, а также родные партизанского комиссара Ивана Ивановича Шерого. Так, в Синде жила семья Шерого — жена Федора Карповна, вышедшая замуж за боевого товарища мужа Осипа Лебедева, взявшего на себя заботу о четырёх малолетних детях погибшего героя. Здесь же в Синде жила младшая сестра Ивана Шерого Елена Ивановна Лопаченко (Шерая). Именно с Еленой Ивановной завязалась переписка, в результате которой он узнал историю семьи Шерых-Лопаченко. Письма от Елены Ивановны, так как она была малограмотна, писала её старшая дочь Лопаченко Зинаида Михеевна (племянница Ивана Ивановича); два из них сохранились в архиве Фомина, и дают представление о тёплых взаимоотношениях Бориса Прокопьевича с родными Ивана Шерого.
Борис Прокопьевич мечтал написать повесть о Синде и синдинцах. Он долго собирал материал к книге, основу которой составили воспоминания синдинских партизан, их отношения к событиям и главным действующим лицам того времени. Когда рукопись была готова, он повёз её в Хабаровск. Но цензура не пропустила материал. Камнем преткновения послужил сложный, неоднозначный образ революционера, командующего Амурской партизанской армией Якова Тряпицина, которого, в отличие от официальной истории, синдинцы считали героем Гражданской войны на Дальнем Востоке. Фомину посоветовали переписать образ Тряпицина и показать его не как героя, а как анархиста, недалёкого и жестокого человека.
Расстроенный Борис Прокопьевич долго не мог придти в себя, но потом всё-таки взялся переписывать книгу заново. Теперь уже процесс переписки шёл очень тяжело. На это ушли годы жизни. Ушли из жизни непосредственные участники описываемых событий, с которыми он советовался и которые помогали и поддерживали его в трудные минуты.
Наконец он закончил книгу в том виде, каком от него ждали. Но в стране наступили новые времена – началась перестройка. Открылись архивы, на страницы печати хлынули когда-то запрещённые для обсуждения и публикаций темы. И когда Борис Прокопьевич вновь повёз свои рукописи в Хабаровск, то оказалось, что изменилась и официальная историческая наука. Изменилась она и в отношении роли Якова Тряпицина. И вновь рукописи Фомина были признаны «не соответствующими новому видению истории Гражданской войны на Нижнем Амуре».
В это время Борис Прокопьевич вышел на пенсию. Ему с женой дали квартиру в Амурске, и так случилось, что мы оказались соседями. Мы жили не только в одном доме, но и в одном подъезде, и на одной лестничной площадке. Таким образом, моя мама Лопаченко Зинаида Михеевна и Борис Прокопьевич Фомин после долгих лет заочного знакомства впервые увидели друг друга. К нему в Амурск несколько раз приезжала дочь Ивана Шерого Антонина Ивановна. Как очень грамотный человек, он принял большое участие в определении места жительства состарившейся, совершенно ослепшей в конце жизни жены Ивана Шерого: помог Федоре Карповне получить квартиру в городе Комсомольске-на-Амуре, за что все родственники ему были очень благодарны. Надо сказать, что он с лёгкостью откликался на просьбы людей, помогал грамотно разобраться в любом вопросе.
Мы с ним часто беседовали, он много рассказывал о себе. В годы Великой Отечественной войны он в составе пограничных войск охранял дальневосточные рубежи от провокационных действий японцев, готовых в любой момент, как пелось в знаменитой песне, «перейти границу у реки». Пограничные конфликты были частым явлением. В одной из таких провокаций Борис Прокопьевич получил тяжёлую контузию, но поскольку дальневосточные пограничные войска не имели статуса регулярно действующей Красной Армии, то те, кто служил в этих войсках, впоследствии не считались ветеранами Великой Отечественной, несмотря на тяжёлые ранения и контузии. Особенно это было обидно тем семьям, родные которых отдали свои жизни при защите своего Отечества.
Борис Прокопьевич вёл долгую и большую переписку с военными ведомствами, писал в разное время министрам обороны, доказывая несправедливость такого отношения к дальневосточным пограничникам времён Великой Отечественной. В первые годы перестройки одному из кандидатов в депутаты от нашего района в Верховный Совет СССР удалось «выбить» какую-то повышенную пенсию Борису Прокопьевичу. Но тут же нашлись завистники от ветеранов, которые приложили немало усилий, чтобы с него сняли эту несчастную денежную прибавку к пенсии.
У Бориса Прокопьевича уже не было ни здоровья, ни сил, ни средств, чтобы переписать книгу заново. Но особенно его расстроил тот факт, что фрагменты его книги, в особенности страницы, связанные с именем Шерого, просочились в книги известных дальневосточных писателей, а потом и недобросовестных журналистов, которые не ссылались на первоисточ-ники, то есть на работы Фомина.
В последние годы жизни Борис Прокопьевич Фомин много писал о природе нашего края, его статьи публиковались в нашей местной газете.
Рукопись книги, на которую он потратил десятки лет жизни, он упаковал в целлофановый мешок, сказав дочери: «Раз мои работы никому не нужны, пусть они уйдут со мной в могилу».
После ухода из жизни Бориса Прокопьевича Фомина я попросила свою маму Лопаченко Зинаиду Михеевну восстановить в памяти то, что она много лет назад писала Фомину под диктовку моей бабушки Елены Ивановны Лопаченко (Шерой). Воспоминания моей мамы, как мне кажется, в какой-то степени помогут восстановить утраченный первоисточник, исключить возможность спекулировать материалами, автором которых был Б. П. Фомин.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ Б.П.ФОМИНА И ЛОПАЧЕНКО З. М.
Здравствуйте, Зинаида Михеевна!
Неожиданно получил Ваше письмо. Спасибо. Рад нашей новой встрече после такого длительного перерыва. Я хорошо Вас помню по письмам и даже сохранил все письма от Вас, от Вашей мамы – Елены Ивановны, и все другие. Ещё раз спасибо за письмо. Теперь Вы недалеко от нас живете, есть реальная возможность лично встретиться. Спасибо Вам и за то, что предлагаете свою помощь в работе над материалом о комиссаре Шером.
Вы пишите о неродном сыне Михаила Ивановича Шерого. Я знаю, что это был не родной сын его. Но факт не в том, главное, что он спас жизнь своему отчиму – большевику. Хоть временно, но он был сыном Михаила Ивановича.
Зинаида Михеевна! Хочу обратиться к Вам с вопросами.
Где живёт сейчас Екатерина Ивановна? Я писал ей письмо в Синду, но ответ не получил. Где живёт Антонина Ивановна? Когда скончалась Федора Карповна и где она похоронена? Когда умерла Софья Ивановна? Чем она болела? Жива ли Ваша мама?
Я в шестидесятые годы со всеми ними встречался и часто переписывался, в 1969 году наша связь оборвалась, так как я вынужден был уехать из Вознесенского, и только в 1975 году вновь сюда вернулся. Поэтому работа над книгой об Иване Ивановиче Шером была прекращена по независящим от меня причинам. Нашлись «друзья», которые растянули мои собранные материалы, и даже кое-что опубликовали от своего имени. Это, конечно, жаль. Мне приходится сейчас труднее в работе, нежели раньше. Однако духом падать – не в моей натуре. Ещё раз спасибо Вам. Напишите, кто ещё жив из родственников (старых) И. И. Шерого и где они. Большой привет Вашей семье. С радостью буду ждать нашей встречи.
Пишите.
До свидания! Уважающий всех вас и лично Вас Б. П. Фомин.
21.10.1977 г.
Здравствуйте, Зинаида Михеевна!
Большой привет семье. Письмо получил. Спасибо.
Очень сожалею, что Екатерина Ивановна больна. Видимо из-за болезни она не смогла ответить на моё письмо. Будете писать, передайте ей большой привет от меня.
Как быстро всё изменилось в жизни! Кажется, что совсем недавно получал письма от Вашей мамы Елены Ивановны, встречался с Федорой Карповной и Софьей Ивановной. А теперь их нет. Жалею, что кое-что не успел сделать при их жизни.
Прошу извинить меня за очень болезненные для Вас воспоминания. У меня пока особых изменений в работе нет. Послал в редакцию городской газеты «Дальневосточный Комсомольск» рассказ о Шером. Пока молчат. Возможно, и напечатают. Вот коротко и всё. Пишите. Отвечу с удовольствием. До свидания.
Всегда Ваш Б. Фомин.
04.11.1977 г.
Яков Тряпицын и Нина Лебедева в госпитале, 1920 год
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЧАПАЕВ» —
так синдинские партизаны называли Якова Тряпицына.
Это человек, о котором не увидели свет материалы по гражданской войне на Нижнем Амуре дальневосточных писателей, о котором мнение современников шло вразрез с толкованием официальной историей. О нём не увидела свет и книга амурского краеведа Фомина Бориса Прокопьевича, который, собирая материал о партизанском отряде «Морской», более двадцати лет вел переписку с бывшими синдинскими партизанами и их родственниками. Это человек, о роли которого в Гражданской войне на Дальнем Востоке до сих пор идут жестокие дискуссии. До недавнего времени о нём можно было говорить только как о диктаторе, злодее, монархисте, самозванце и так далее. Новое поколение синдинцев, и, думаю, не только синдинцев, о нём ничего не знает. По их просьбе я решила подробнее остановиться на этой личности.
Кем был на самом деле Яков Тряпицын, должна сказать современная историческая наука. Как сейчас пишут историки, материала собрано вполне достаточно.
Но даже такие сравнения Тряпицына с Чапаевым соратники по борьбе с интервенцией могут сказать не так уж мало.
Прошедший недавно на телеэкранах страны документальный фильм о Чапаеве показал, как легко было устранить ненужного партии человека. И неважно, что для этого пришлось уничтожить дивизию. Для того, чтобы расправиться с Блюхером, запросто уничтожили армию.
Причина, по которой расправились с Тряпицыным, никогда не была тайной. Прочитаем только одну его телеграмму в Москву:
«Иркутск. Тов. Янсону – Уполномоченному иностранным отделом от ЦК ВКП (б) из Москвы» – Ленину.
Нам стало ясно, что вы совершенно неверно информированы о положении здесь, и хотели бы спросить, кто вас информировал о положении здесь, а также и Москву, в которой вынесено постановление о буферном государстве на Дальнем Востоке, создание которого совершенно нецелесообразно… Вы указываете, что целью является создание такого государства, которое может признать Япония, следовательно, государства не советского, но тайно действующее по указанию Совроссии. Насколько это абсурдно, для нас было это совершенно ясно с первого момента.
Прежде всего, государство это, если оно земское, а не советское, не может вести политики Советов, и за время своего существования совершенно ясно выявило политику чистой белой гвардии, что и доказано событиями в Хабаровске и Владивостоке; второе это то, что японцы не допустили бы советской политики буфера и сразу её заметили бы, и такие обвинения от них уже были, они указывали, что под ширмой земства гнездятся большевики; и, возможно, что этот мотив тоже является одной из причин их выступления, именно уничтожить советские элементы, и они этого достигли… Думая избежать столкновения с Японией и прекращения оккупации мирным путём, вы рассчитывали, что Япония, признав земство, откажется от оккупационных целей и уйдёт подобру-поздорову. Японцы уступают только в силе. И вы достигли как раз обратных результатов: вместо избавления от японцев буфер дал нам ещё более злейшую войну, даже больше; вы своим дурацким буфером сорвали уже готовую победу красной партизанской армии на Д. Востоке, ибо смею вас уверить, что если бы не провокация буферов и земцев, то японцы, под давлением наших сил, ушли бы отовсюду, как ушли из Амурской области и Николаевска».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: