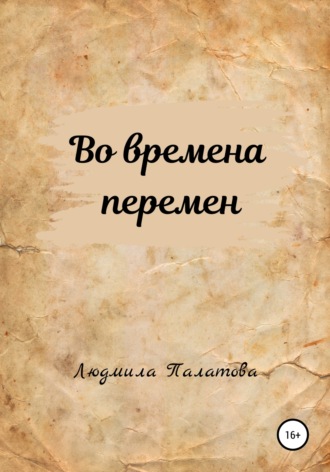
Во времена перемен
Очень впечатлило то, что все музеи расположены в специально построенных зданиях с соблюдением всех необходимых условий хранения экспонатов. Я не припомню провинциальных музеев у нас, которые не располагались бы в приспособленных домах самого разного назначения. И, конечно, незабываемые впечатления остались после посещения дома-музея Рубенса, построенного им по собственным проектам в стиле двух эпох и сохраненного в неприкосновенности, о чем свидетельствует картина 16 века, изображающая эту самую мастерскую, только с тогдашними посетителями. И привела нас в недоумение поза нашего руководителя, который сел на входе на скамеечку спиной ко всему на свете, да так и просидел всю экскурсию под предлогом, что башмаки жмут. Очень впечатлила нас беседа с пенсионером, бывшим москвичом, который подсел к нам в автобус с целью поговорить по-русски. Он живет в Бельгии с 1922 года, ему 80 лет Он дорожный мастер, окончил Льежский университет. Выглядит, как огурчик. Получает 4 пенсии: основную, заграничную, африканскую и удвоенную социальную после 80-летия.
В Англии мы были три дня. Помимо Лондона, развода караула, Британского музея, Тауэра, Хайгетского кладбища с могилой Маркса, мы посмотрели страну с юга на север до границы с Шотландией. Пригласили нас кооператоры на встречу, где угостили вином из английского винограда. Так мы оценили влияние Гольфстрима. Надо сказать, что Англия – очаровательная страна. Пейзажи там производят умиротворяющее душу впечатление. А побывавши в диккенсовском центре в Рочестере, я окончательно укрепилась в этом мнении. И совершенно поразила нас картина, когда аккуратненький тракторок на выезде с поля был остановлен хозяином, колеса его помыты из шланга, после чего шоссе оставалось чистым, а не заляпанным глиной, как у нас. Единственно в чем мы испытали разочарование, так это в английской кухне. Нас покормили едой из концентратов, это после обеда в замке Эгмонта в Бельгии.
В поездке нас сопровождала переводчица – студентка-заочница шведского отделения института им. Мориса Тореза. Она плохо знала английский и не поинтересовалась ни особенностями, ни искусством стран, куда направлялась. Комментарии ее вызывали большие сомнения. Основную часть сведений мы получали от работников наших посольств, которые приезжали на пароход. Наша студентка ждала Скандинавию, чтобы показать свои знания, а в Стокгольме нам прислали русскоговорящего гида.
Норвегия мне очень понравилась скромным и милым пейзажем и замечательной приспособленностью к суровым природным условиям. Их этнографический музей под Осло очень напоминает нашу Хохловку. Чем севернее страна, тем меньше цветов, в Норвегии уже нет никаких огородов, все, начиная от фьордов, представляет естественный ландшафт, в который органически вписываются дома и люди. Даже олимпийский трамплин как будто создан природой. Славу Норвегии составляют не так много имен, но зато каких! Ибсен, Григ, Нансен, Хейердал – каждый из них оставил свой след в мировой культуре и науке. Мы с удовольствием полазили по «Фраму», потрогали рулевое колесо, представили себе зимовщиков на вмерзшем в льды корабле. Полюбовались древними ладьями и походили вокруг «РА». Одно дело читать книгу, а другое – своими глазами увидеть камышовую лодку, на которой Хейердал бороздил океан.
Стокгольм оставил мало впечатлений. Экскурсия по городу была скромной. Остальные два дня мы были предоставлены себе. Гуляя, набрели на место гибели Улофа Пальма. Оно отмечено на тротуаре большим комом земли, из которого растут алые розы. На маленьком кладбище перед кирхой могила с небольшой стелой, на которой только его роспись, а его двухэтажный дом в начале старого города имеет три окна по фасаду. В монархической Швеции демократия с отличным социальным пакетом, а про пенсионеров гид сказала, что они у них миллионеры. Да и сам премьер-министр был застрелен, когда стоял в очереди за билетами в кино. Интересно, нашим бы слугам народа такое приснилось? Наша переводчица, которая так ожидала Швецию, куда-то исчезла. Путешествие подходило к концу. Пароход лег на обратный курс.
Сложившейся за время круиза компанией, которая еще временами собирается и сейчас, мы попытались прикинуть, кто же был у нас представителем от «органов». Перебрали все возможные кандидатуры и никого не нашли. А в Ленинграде ситуация прояснилась самым банальным образом.
В группе ехала Лидия Алексеевна Уткина, которая во время войны была в 6ти-летнем возрасте заключена в Освенцим. Мать ее была интернирована во взрослый концлагерь и попала в американскую зону. Освободившись, женщина вышла замуж за голландца и с тех пор жила там. Она нашла дочь через Красный крест, когда той был 31 год. Родным разрешили увидеться сначала в международном санатории в Крыму, а затем выпускали дочь заграницу. Во время нашей поездки Л.А. навещала мать днем, пока мы были в Голландии и Бельгии. Переночевать у родных ей ни разу не позволили. Так и ездили мать с отчимом за нами по побережью. Мама подарила дочери шубу и разную мелочь. Это могло вызвать осложнения. На таможне тщательно проверяли, не превысила ли стоимость приобретенных вещей 80ти долларов. Л.А., конечно, сразу доложила об этом начальнику группы и руководителю круиза, которые были в курсе ее истории.
Когда мы собирались перед высадкой, соседка Л.А. предложила ей переложить в ее вещи часть подарков. После этого из каюты ушла третья пассажирка, молодая учительница русского языка и литературы. А Л.А. подумала и отказалась – все равно на таможню уже доложено, она официально всех предупредила. На выходе Л.А. пропустили без проблем вместе с шубой и шоколадками, которые мы не успели съесть. А соседку вытрясли до основания, хотя у нее ничего сверх разрешенного не оказалось. Вот тут-то я и вспомнила, что «учительница литературы» приходила ко мне перед традиционным самодеятельным концертом с просьбой помочь расставить ударения при чтении порученных ей стихов. Вот уж кого заподозрить никому в голову бы не пришло.
Конец путешествия чуть не свел на нет все впечатления от поездки. Наше турбюро не было бы нашим, если бы обошлось без такого сюрприза. На инструктаже нас предупредили, что обратно мы будем возвращаться через Москву (туда мы ехали прямым поездом Свердловск-Ленинград). Наш руководитель под предлогом совещания в обкоме улетел самолетом. Он единственный знал о той подлянке, которую нам подложили.
На инструктаже начальственная дама распиналась, что мы поедем из Питера в Москву на «Красной стреле». У меня мелькнула мысль, что у «Стрелы» не может быть номера 386. Догадаться бы сразу! Мы могли без проблем улететь на самолете или уехать нормальным прямым поездом. На перроне мы никак не могли отыскать свой состав. Когда я читаю «Гарри Поттера», каждый раз вспоминаю эту «Стрелу».
С большим трудом на запасном пути обнаружили мы поезд без всяких опознавательных знаков, который был извлечен с кладбища отслуживших вагонов – весь в грязи и саже, с сидячими местами. В вагонах было сломано все, что ломалось и унесено все, что снималось. Оконные стекла даже не просвечивались. Чем могли, стерли грязь с сидений. Случайно оказавшийся в коридоре проводник в ответ на наше возмущение заявил, чтобы мы радовались, п.ч. в соседних вагонах и туалета нет. В таком виде мы прибыли в столицу нашей родины, куда нам вовсе не надо было, в 6 часов утра. Наша «Кама», на которой нам предстояло ехать до Перми, отходила в 6 часов вечера. Моих знакомых в городе не оказалось. Кое-как мы протолкались в жару в мегаполисе и не чаяли, как добраться до родного поезда. Так разрешили очередные малые чиновники проблему с транспортными перегрузками в сезон за очень немалые наши деньги. И все же я вспоминаю наше путешествие как большую удачу в жизни.
На следующий год я и А. М. Дмитриева отправились в Польшу и Чехословакию. В Польше все было отлично. У нас был менеджер в группе, молодой военный отставник, который недолго поудивлялся, что мы ничего не хотим продать, и старался показать как можно больше. Он выкроил время и свозил нас в Ченстохов, куда русских туристов старались не пускать. Когда что-то не получалось с гидом, он брал путеводитель и переводил нам очередной раздел. И, конечно, неизгладимое впечатление произвели Освенцим (Аушвиц) с Бжезинкой. Нормальному человеку воспринять это невозможно. Удивление вызвало у нас отсутствие следов всяческой памяти в нашем павильоне. Там были только 2 – 3 фотографии в абсолютно пустом зале.
У чехов мы опять попали в перегрузку. Вместо Праги нас поселили в пригород за 10 км. В ответ на замечание, что город входит в программу, мы услышали: «не нравится – мы вас отправляем в Союз». Все же хамство – это неистребимое и обязательное качество у наших начальников на любом уровне и при любой исторической формации. Наш гид, эксгумированный дедуля по фамилии Шприц, каждые полчаса пил кофе, чтобы удержаться на ногах. Иногда в автобусе он оживал и сообщал что-нибудь вроде: «мы только что проехали поле, где проходило сражение при Аустерлице!». Вместо Пражской национальной галереи он привел нас поближе – в музей города на Вацлавской площади. А то мы на Урале камней не видели!
Когда мы на обратном пути пересекли границу в Чопе, я стала вспоминать дословно все, что знаю из сочинений глубоко мною чтимого за абсолютную современность Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. И кукурузу, которая была мне до колена, а только что в Чехии – выше человеческого роста. И чистый туалет на чешской таможне – в Чопе в нем было по колено воды, зато в буфете воды как раз не было, и нам не дали даже чаю. А еще говорят, что у нас в России не придерживаются традиций! Перечитайте «Письма к тетеньке» и «За рубежом», а также «Историю города Глупова» и все прочие сочинения указанного автора. У вас отпадут все сомнения. Из каждой поездки заграницу я с радостью возвращаюсь домой, я люблю свою родину, но каждый раз при этом «интересуюсь знать»: у нас всегда так и будет? А может быть настанет время, когда нашу картинную галерею с её бесценными экспонатами поместят в специально построенное здание, как Пинакотеку в Мюнхене, где мы целый день пробродили с Милой и её сыном, встретившись через 10 лет разлуки? А может, и зоопарк перенесут с Архиерейского кладбища – очень жаль зверей. Может даже вернут ипподром, где жадные нувориши гробят элитных лошадей, чтобы построить там сотый «торгово-развлекательный центр», с которого получают бабло, не прикладая рук.
Кроме путешествий большое место в нашей жизни занимало чтение, причем за последнее время кроме классики и новинок у меня хорошо идут детективы. Мне казалось, что это только моя блажь, оказалось – нет. Мои коллеги-хирурги поглощают эту продукцию в больших количествах. А когда я прочла интервью академика Блохина о том, что он не может читать литературу с глубокими проблемами, а в театре предпочитает комедии, то поняла, что это следствие профессии.
Работа у нас не оставляет много времени для разного рода увлечений, но с большим удовольствием мы посещали заседания Клуба пушкинистов. Собрания эти состояли вовсе не из филологов. Все 13 лет существования клуба в нем занимались люди разных специальностей: строители, учителя, инженеры, врачи. Руководил всем этим доцент пединститута Владимир Ильич Ширинкин и методист библиотеки им. Пушкина Римма Алексеевна Долгих. Для нас занятия в клубе были отличной отдушиной. Обсуждались интересные темы, находки в библиотеках, например, дневник пушкинской поры из хранилища педагогического института. Посетил нас и потомок Пушкина.
Еще один клуб – любителей камерной музыки «Классик», который существует и поныне, скрашивал наш достаточно редкий досуг. Его руководитель, Людмила Михайловна Корж, уже более 20-ти лет с огромным энтузиазмом неуклонно продвигает дело популяризации классической музыки и дает возможность молодым исполнителям показать свои возможности при ограниченном количестве площадок.
После революции в «лихих девяностых» происходят большие и малые перевороты, всегда с предсказуемыми результатами. Особенно горько видеть это в самой близкой области – медицине. Собственно, и это как раз не нарушение традиции. Бунты и революции для России – дело характерное. Правду сказал кто-то: «бойся того, кто скажет: я знаю, как надо». Разрушить систему с крепкими исполнителями трудно. Великий вождь недаром опирался на пролетариат. Люмпену на все плевать – ничего нет, и заботушки никакой. И жалеть нечего. Разрушим старый мир до основания, а затем хоть трава не расти. И выросло поколение в чистом виде потребителей. А созидать для потребления кто будет? Известно, что будущее страны прямо зависит от просвещения. А вот здесь у нас проблема.
Началось разрушение в прошлом веке, когда наверху кому-то, не жить, не быть, понадобились реформы. Поскольку образованием у нас руководили (и продолжают) люди, к нему непосредственного отношения не имевшие, то и вреда большого сразу они по своей неспособности нанести не смогли. Несколько раз на моем веку вводили на 6м курсе план с повторением по всем предметам. Умные люди указывали на глупость этой методы и возвращали снова субординатуру по трем основным специальностям. Тогда возникла идея вернуться к пятилетнему курсу обучения. Сокращать начали с первого курса, и во втором семестре пришли физиологи с программой по нейрофизиологии, в то время когда по анатомии были изучены только кости и связки. Переходный план был отвергнут.
Наконец, кому-то пришла в голову мысль усовершенствовать преподавание хирургии. Идея состояла в том, что студент должен был учиться в одной клинике. В классическом варианте на третьем курсе занимаются общей хирургией, где представлены основные понятия о патологии при хирургических заболеваниях. Факультетская хирургия – четвертый курс – дает сведения о типичном течении и лечении основных болезней. На пятом курсе хирургия носит название госпитальной и показывает, как это бывает на самом деле. Кафедры располагаются на разных базах. Таким образом, занимаясь по нормальному плану, студенты увидят все уровни оказания помощи.
Реформаторами предложено было разделить курс на части и направить каждую для прохождения всей хирургии на одной базе, а кафедры обозначить по номерам. Мы представили себе, что на базе областной больницы (кафедра № 1), где по статусу нет неотложной хирургии, студенты увидят общую, кардиохирургию, эндохирургию и прочие топ-дисциплины, но не получат понятия о неотложной патологии, а на 6м курсе – никаких практических навыков. Другая часть учащихся ( кафедра № 2), которая попадет на базу городской или железнодорожной больницы, не увидит высоких технологий, но зато подежурит по неотложной помощи, повскрывает гнойники и поделает обработку ран, т.е поработает руками. За что же такая дискриминация?
Абсурдность этого проекта была видна невооруженным глазом и сразу вызвала активное неприятие. Однако в Свердловске было созвано Всероссийское собрание преподавателей. Е.А. забрал с собой туда половину кафедры, и мы отправились протестовать. В большой аудитории посланец Москвы – молодой человек лет 26ти зачитал проект. Было очень много выступлений. Все до одного сказали «нет», после чего снова вышел юноша с уже весьма гиперемированной физиономией и зачитал постановление, в котором значилось, что мы единогласно «за», неловко повернулся и ушел. Мы остались с раскрытым ртом.
Вернувшись домой, стали думать, как беду избыть. Вагнер и решил объединить госпитальную кафедру с факультетской, а преподавание оставить на тех же базах, как было. Решение было соломоновым. Мы поработали несколько лет под новым названием, но по старому принципу, а потом все вернулось на круги своя. А результаты выполнения приказа мы видели потом в Омске, когда ездили туда с комиссией. Было очень грустно. Следует заметить, что в Центре подобное нововведение проигнорировали, и кафедра главного хирурги федерации В.С.Савельева как была факультетской, так и осталась.
И дальше снова все завертелось по кругу. Долгие годы в институте существовало вечернее отделение, хотя такое обучение медицине просто не может существовать. Оно и было только на первом курсе, а далее становилось дневным. Проку от него не дождались, и закрыли неудачный эксперимент. Уничтожение традиций нашего медицинского образования продолжается неуклонно до настоящего времени, теперь уже под эгидой вступления в Болонскую программу. Нам не подходит баккалавриат – совершенно непонятно, кем медицинский бакалавр может работать и кто он вообще такой. Если фельдшер, то это среднее образование. Для него уже в системе института есть училище. Врачом он быть не может – не доучился.
Тем временем наш институт переименовывают в Академию. Зачем? Лучше всего на это ответил на торжественном акте сам Е.А.Вагнер. Собрание это было пышным и продолжалось долго. Е.А. облачили в суконную накидку с соответствующим головным убором. Под софитами лицо его покраснело, видна была одышка. Мы с тревогой ждали окончания церемонии. Наконец, он встал для заключительного слова.
– Вот нам присвоено звание Академии. Вы спросите меня, а что это дает? А ничего не дает! Все как было, так и остается.
Действительно, все так и осталось. Бумаг, как всегда, стало больше, и количество их с каждым годом нарастает. За последний год несколько раз менялось название министерства, и соответственно меняется название академии, а это влечет за собой непрерывное переписывание всей официальной документации, начиная с заявления о чем угодно, а деньги уходят на новые бланки. Непрерывно меняются формы всех без исключения методических материалов. Для аттестационной проверки надо подготовить 34 папки с планами, отчетами, программами, графиками и пр. Когда их увидел у нас на кафедре министерский проверяющий, он впал в состояние глубокого изумления и начал эту картину фотографировать, смеясь и приговаривая: «никогда не видел ничего подобного!» А мы за что маялись? Это все для оправдания существования класса бюрократии. В 50х годах в институте была одна секретарь по имени Рита, которая управлялась со всеми делами, включая ученый совет. Теперь управление занимает весь бывший главный корпус.
А на деле студенты не знают анатомию, п.ч. из-за общества защиты кого-то или чего-то трупы в анатомке запрещены, и учатся по схемам – врачи! Между прочим, даже в средние века под страхом инквизиции и костра трупы вскрывали. Не так давно главным врачам был разослан циркуляр, запрещающий допускать студентов к больным. Никто не признается в авторстве этого исторического документа. К чести главных, все они помнили, что образование получили в институте, и указание выполнять не стали. Но дело не в этом. Нас учили, что живя в обществе, нельзя быть свободным от этого общества. Модернизация, т.к. нашелся тот, «кто знает, как надо», и что «медицина – понятие экономическое» (интересно, когда у него заболит, он обращается в бухгалтерию?), началась с медико-экономических стандартов (МЭС). Снова копируем заграницу и, как обычно, наоборот. Есть области в медицине, где стандарты необходимы, особенно в неотложных состояниях. Но у нас ухитрились ликвидировать при помощи МЭСов клиническое мышление, т.е. основу медицины вообще. В свое время существовало понятие «фельдшеризм», оно обозначало механический тип мышления и искоренялось самым жестким образом. Теперь его поставили в основу работы врача, и мне немалого труда стоит выбивать его из моих студентов. Ведь кто-то же должен сказать «нет»! В недалеком будущем будут объяснять, что этот подход был глубоко порочным и т.д., но мы уже получили популяцию медиков, неспособных думать.
Преподавание по теперешнему учебному плану на 6м курсе не только означает потерю времени у студентов, но и сводит на нет квалификацию преподавателей. Повторять одно и то же в 12 – 14 группах за учебный год – это превратиться в органчик.
Мультимедийное обеспечение из прогрессивного метода превращено в способ отделаться от творчества для бездельников-преподавателей. А студенты уже не воспринимают обычную речь. Они списывают текст лекции с экрана, при этом умудряются полностью отключить голову от моторики пальцев.
Госпитальная хирургия так преподаваться не может. Мы привыкли к свободе изложения внутри определенной проблемы и обязательно на конкретном больном. Вся беда в том, что в результате модернизации на программу, которую мы проходили раньше за 2,5 месяца, у меня теперь отведено 6 дней. А в результате ко мне в магазине подошла девочка с знакомым лицом и сказала: «Здравствуйте! Я знаю, что Вы нам что-то преподавали, но никак не могу припомнить, что!»
Я просветила ее и в свою очередь подумала, как до сих пор заглядывают в кабинет седые дяденьки и говорят: «А помните, как вы нам рассказывали о какой-то патологии, мне такой больной встретился, а еще вы нам показывали картины Рембрандта, а еще….» Эти почему-то не забыли. Они целый год на 6 курсе были в клинике и не ознакомлялись снова по первому уровню усвоения, а пытались применить полученные знания на практике.
Теперешние студенты кругозора не имеют. Вообще. Недавно я спросила их, кто такой Остап Бендер (пришлось к случаю). Ни один из группы не знал. А ведь я не Герценом и не Иннокентием Анненковым интересовалась. Они в принципе не читают ничего, а истории болезни скачивают из Интернета в готовом виде. Пришлось запретить на кафедре все их печатные произведения. После внимательного прослушивания и конспектирования на следующий день они не могут ответить на простые вопросы. Вы хотите, чтобы я еще и повышала их культурный уровень? А можно узнать, где он у них?
А теперь на меня с удивлением смотрит другое поколение. Они не понимают, как можно работать за небольшие деньги, штопать носки (их просто выбрасывают), зачем ходить в библиотеку, когда есть интернет, кто готовит стол для гостей, когда есть кафе? Ну, отравились готовыми салатами, дело житейское. Кто это с детьми книги читает, включи ему телик или планшет, и свободен. А не кажется ли вам, ребята, что за любой прогресс полагается серьезная оплата? Теперь у меня все время крутится в голове вопрос: к кому пойдут лечиться эти ребята? Где им искать доктора?
А что, если дети вам тоже на старости лет телевизор включат вместо тарелки с кашей? А носки кто-то сначала сделать должен. Это ведь тоже уметь надо! Про бесплатный сыр слышали? Виртуальная жизнь для человека не годится, потому что он пока материален. А учиться создавать материальные ценности придется всю жизнь.
М.В.Ардов в своей книге: «Монография о графомане» приводит слова Л.Н.Гумилева: «Я никогда не видел в советской науке борьбы материализма с идеализмом, борьбы пролетарской идеологии с буржуазной… У нас всегда была одна борьба – борьба за понижение требований к высшей школе. И эта борьба дала свои плоды». Знал бы Лев Николаевич, какие плоды она дает сейчас!
Я сознательно не пишу больше о настоящем. После смерти Е.А.Вагнера, естественно меняется работа на кафедре. Новый заведующий, Владимир Аристархович Черкасов – ученик Евгения Антоновича и ничего радикально переворачивать не будет. Больше всего мы страдаем от непрерывных реформ сверху. Результаты их не радуют. Но время для анализа еще не настало. Надо отойти подальше. «Лицом к лицу лица не увидать».
Ну, хватит о грустном. Я не верю, что можно разрушить в моем институте образовательный процесс. У нас сохранился серьезный потенциал. Кафедра с нашими традициями все равно устоит перед «модернизацией». Это не раз уже было. Разум обязательно возобладает, и все наладится и будет хорошо. Пока существует человечество, науку уничтожить невозможно. Это заложено в его природе и, слава богу, не зависит от воли отдельных людей. У нас уже был эксперимент на нашем поколении, а мы дождались его результата. Я и написала все это для того, чтобы знали и помнили, потому что без прошлого нет будущего. Пора, дорогие потомки, учиться на чужих ошибках. Собственные могут быть такими, что учиться будет уже некому.
Пермь, 2015


