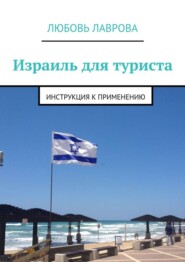По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Израиль
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кстати, про портного – очередной еврейский анекдот:
«Заказчик попросил портного сшить брюки. Проходит неделя, другая, месяц… Наконец, брюки готовы. Заказчик возмущенно говорит: «Богу понадобилось всего шесть дней, чтобы сотворить весь мир, а вы целый месяц шили одни брюки». Портной отвечает: «Таки ви посмотрите на этот мир, и посмотрите на эти брюки».
Еще в музее есть панно со знаменитыми евреями, прославившимися на весь мир. Среди них, например, производители джинсов марки левайс – братья Леви, и даже фокусник Гудини. Вот так-то! Мол, знай наших!
Производители джинсов братья Леви.
Фокусник Гудини.
Конечно, есть в музее и зал, посвященный грустной странице истории еврейского народа – Холокосту. Это темный, мрачный зал высотой в два или три этажа. Экспозиция в нем сдержанная, скорее символичная, она посвящена памяти имен тех миллионов евреев, которые погибли или пострадали во время Холокоста. Евреи также называют это страшное историческое событие Катастрофой, что вполне отражает его суть.
Чтобы не заканчивать рассказ о музее на грустной ноте, упомяну об одной замечательной выставке, которая проходила там во время нашего посещения. Выставка посвящена женскому свадебному платью. На ней представлены свадебные платья, созданные современными израильскими дизайнерами, но с опорой на исторический костюм и традиции. Их объединяет только белый цвет, а в остальном фасоны, отделка и крой необыкновенно разнообразны. Вообще в израильском обществе существует культ семьи, поэтому и тема выставки – свадебный наряд – гармонирует с жизненной философией и мировосприятием израильтян.
Свадебное платье, один из экспонатов выставки.
А как вам вот такой фасон?
Подтверждением этому служит и тот факт, что в центре Тель-Авива мне встретилось огромное количество магазинов свадебной и вечерней моды с совершенно потрясающей красоты нарядами. Что ж, правильно, в жизни всегда должно быть место празднику!
Салон свадебной моды в Тель-Авиве.
Сногсшибательный наряд!
Университетский квартал
Вот я рассказала о музее, а ведь до него надо было еще добраться. Наш путь оказался непрост и извилист. Дело в том, что, как и многое в Израиле, музей по-разному называется в разных путеводителях – где-то Музей Диаспоры, где-то Музей Истории еврейского народа, где-то еще по-другому. Ничего удивительного в стране, где одна и та же улица может иметь два названия – арабское и на иврите, и означать они могут довольно разные вещи. Взять те же названия ворот в Старом городе в Иерусалиме, у одних и тех же по два, а то и три названия. Вот и разбирайся, турист! Интернет не сильный помощник в этом деле, т. к. отражает в себе, как в капле воды, т. е. еще с бОльшим искажением, запутанную реальность.
На первом этапе мы на поезде доехали до станции Университет, потому что она была обозначена как ближайшая к музею. «Ближайшая! Ви мне будете рассказывать!.. Перестаньте сказать!», ответили бы на это в Одессе. Через несколько часов прогулки, плавно перешедшей в судорожные поиски, после опроса десятка прохожих, скрупулезного изучения карты, споров на грани семейной ссоры мы нашли-таки этот музей, когда уже почти отчаялись это сделать. И у нас даже нашлись силы его осмотреть (наверное, открылось второе дыхание).
Зато мы, сами того не планируя, изучили университетский квартал. Рядом с железнодорожной станцией «Университет» действительно расположено одно из многочисленных зданий огромного учебного комплекса. Его отличает необычная белая крыша. В здании расположены целых два музея. Один из них посвящен премьер-министру Ицхаку Рабину, погибшему в результате покушения. Но мы решительно отвергли их посещение, т. к. искали «свой» музей.
Одно из многочисленных зданий университетского комплекса в Тель-Авиве (рядом с ж. д. станцией «Университет»).
Редкие попутные прохожие (все-таки праздник) не знали ни о музее, ни тем более о том, где он находится. Нашелся один человек, который уверенно показал нам, что музей вон там, но это оказался музей чего-то вроде нефти и газа, что нас опять же не интересовало. Когда наши силы уже почти иссякли, нашелся отзывчивый прохожий, который, увидев наши тщетные поиски, сам вызвался нам помочь. И сказал, что таки да, музей находится здесь. Здесь – это за огромным забором, за которым виднеется десяток зданий на приличном расстоянии друг от друга, и которое из них музей, непонятно. Мы подкрепились в симпатичной студенческой столовой, где нам на закуску в виде комплимента подали маринованную фасоль (местное национальное блюдо). И вновь мы отправились на поиски. У очередных ворот в очередной раз мы спросили охранника, здесь ли музей. И, о чудо! – охранник, указав на ортодоксальную еврейскую семью, вереницей шедшую по лужайке, сказал, чтобы следовали за ними. Так мы нашли то, что искали.
О музее я уже подробно рассказала, добавлю немного о его окрестностях. На втором этаже в здании музея есть неплохое кафе, где подают кофе с выпечкой. Можно выйти на веранду, насладиться видом на зеленую лужайку и корпуса университета. Здания построены в стиле баухаус, он же конструктивизм, который мне в принципе не нравится, но слова из песни не выкинешь.
Большинство зданий в историческом центре Тель-Авива именно в этом стиле, они признаны объектами культурного наследия и охраняются государством. Конструктивизм отличают лаконичность форм, строгая геометрия и практицизм. Наверное, для жаркого израильского климата это и есть самый подходящий стиль. Так вот, на территории университетского парка есть одно интересное здание в этом стиле – синагога Цимбалиста. Названа она не то по имени архитектора, не то спонсоров строительства. В Тель-Авиве вообще много сооружений типа садов, парков, памятников, домов, возле которых имеется табличка с именем человека, пожертвовавшего средства на их создание. Особенность архитектуры синагоги Цимбалиста в том, что у основания ее двух широких колонн в сечении образованы два квадрата, которые затем на самом верху незаметно преобразуются в два круга. Кроме того, здание построено из особенного золотисто-оранжевого материала и красиво мерцает при солнечном освещении.
Синагога Цимбалиста.
Пока мы любовались архитектурными красотами конструктивизма и свежей зеленью, на лужайке внизу катались на велосипеде члены многочисленного ортодоксального семейства. Отец и его маленькие сыновья были одеты в традиционную одежду ортодоксов, в которой они выглядят как бы отделенными от остальных, отстраненными от обычных людей, но при этом они увлеченно колесили по саду, как самые обычные люди. И этот контраст выглядел и забавно, и трогательно.
Особенности кухни
Готовясь к поездке, я тщательно штудировала путеводители и в одном из них наткнулась на фразу, которая меня сильно расстроила. Смысл ее заключался в том, что в Израиле, мол, нет как таковой национальной кухни. Я возмутилась, как же так, быть такого не может! Ведь известно целых два направления еврейской кухни – сефардская и ашкеназская, между которыми, как говорится, есть «две большие разницы». Сефардская кухня берет истоки из той части диаспоры, которая обосновалась в Испании. Соответственно, она отличается особой остротой и пикантностью. Кухня ашкеназов – это кухня евреев из Центральной и Восточной Европы. Она близка, например к чешской и немецкой, отличается сытностью и насыщенностью блюд. Ну а поскольку еврейские поселенцы в большинстве были людьми небогатыми, им приходилось выдумывать вкусные блюда из простых продуктов, имевшихся под рукой. Отсюда появился форшмак, гефиллте фиш (фаршированная рыба), всевозможная сладкая выпечка и т. п.
Побывав в Израиле, могу сказать, что авторы путеводителя, который так поначалу меня смутил, в чем-то были правы. Хотя, возможно, мы не сильно старались найти ресторан с настоящей израильской кухней. По крайней мере, еда в ресторане отеля и близлежащих кафе была вполне похожа на привычную европейскую кухню. Факт тот, что нам не встретилось что-либо экзотическое. Судите по фотографиям.
Израильская кухня. В популярном заведении – Cafe Cafe.
Еще немного израильских яств.
Зато мы на практике столкнулись с кошерной кухней и убедились, что ее правила соблюдаются неукоснительно. Согласно религиозным требованиям (кашруту), в еврейской кухне не допускается смешивание мясных и молочных продуктов. Поэтому, например, бефстроганов в сметанном соусе – здесь блюдо недопустимое. Мы испытали эти ограничения на себе, особенно на завтраках в отеле. Поскольку на завтрак положено есть что-то молочное, типа творога или йогурта, то из блюд была исключена любая мясная продукция. Так что любителям колбасы и сосисок по утрам пришлось страдать. Зато можно было набирать в любой комбинации творог, сыр, йогурт, яйца, помидоры, огурцы, фрукты, сладости, выпечку и … соленую рыбу и селедку! Да-да, ее подавали на завтрак. Это же не мясо, а значит все кошерно. Ну, ничего, в течение 10 дней можно было потерпеть и это, так же, как и отсутствие дрожжевого хлеба.
Наконец, пару слов о еврейском фастфуде, который называется фалАфель, или фалЯфель. Это излюбленные местным населением овощные тефтели, которые готовят в киосках и ресторанных двориках торговых центров. Мы не стали их пробовать, так как народ поглощал их в очень уж демократичной (читай: антисанитарной) обстановке, сидя прямо на ступенях лестницы в торговом центре. Мы к такому не привыкли, ну и не стали рисковать.
В целом, мы остались довольны своим питанием, потому что и в отеле, и в местных кафе блюда были вкусные и разнообразные, порции большие, а главное, все было свежее и качественное.
Язык – иврит
Официальный язык государства Израиль – иврит. Это древний язык, который считался мертвым, т. е. в современности на нем уже никто не говорил. Но это был язык религиозных книг, которые продолжали изучать и по которым молились верующие иудеи. Израильские лингвисты, взяв мертвый язык за основу, восстановили его и создали язык, на котором теперь говорит, пишет и читает население страны. Буквы читаются справа налево, как и у арабов. И это не единственное, что роднит два враждующих, но так похожих друг на друга народа. Местные переселенцы, приехавшие сюда с просторов СССР по алии (волне эмиграции), осваивают язык в школах – ульпАнах. Мы разговорились с одной женщиной, фармацевтом в аптеке, до отъезда она была бухгалтером. Она сказала, что ей язык дался легко, потому что он, по ее словам, «математический», логичный, так что она его быстро освоила.
В первой поездке мне запомнились всего лишь два слова: «слихА» – извините и «тодА» – спасибо. Ну а приветствие «шалОм» известно многим. Трудностей с общением не возникало, потому что большинство репатриантов из бывшего СССР/ нынешнего СНГ говорят по-русски, а многие местные владеют английским.
Мои попытки записать алфавит на иврите. Заранее прошу прощения у знатоков за ошибки!
Но однажды мы столкнулись с конфронтацией, возникшей на почве языкового непонимания. Зашли мы с мужем в продуктовый магазин, подальше от туристических кварталов. Как раз за колбаской, которой нам так не хватало на кошерных завтраках. И я по привычке по-английски обратилась к дородной продавщице в мясном отделе. Мол, could we please have this sausage?[1 - «Можно ли нам взять вот этой колбасы?»] и все в таком духе. Эта коренная жительница оказалась той еще хамкой, достойной советских продавщиц из 80-х. Надвинувшись на меня всей своей массивной фигурой, она возопила: «IVRIT!!! NO ENGLISH!!!»[2 - «ИВРИТ!!! НЕ АНГЛИЙСКИЙ!!!»] Попытки изъясниться жестами также не увенчались успехом. Продавщица оказалась совсем неконтактным персонажем. Наши жесты в сторону колбасы и ценника почему-то разозлили ее еще больше. Она металась, как разъяренный бык, в узком закутке за прилавком. Но и мы не сдавались («Русские не сдаются!») и продолжали маячить у прилавка в ожидании заветной колбаски. Тогда наша оппонентка не выдержала и громовым голосом возгласила «ЛЮДА-А-А!!!», в ответ на что из подсобки вынырнула ее русскоязычная коллега, с которой мы благополучно и объяснились, получив желаемое.
Эта поучительная история скорее исключение, подтверждающее правило. Все-таки это был единственный эпизод, когда мы столкнулись с открытой враждебностью по отношению к туристам. В остальном же с нами общались доброжелательно.
Два слова об идише
Тогда что же такое идиш? Это еще один мертвый язык. Теперь, к сожалению, уже действительно практически мертвый. А ведь совсем недавно – меньше века тому назад – это был живой язык, на котором общалось еврейство всей Европы, да и мира. Идиш был крутой смесью из корней слов, заимствованных из разных языков – иврита, немецкого, польского, белорусского, украинского, русского… Список можно продолжать, так как в идиш вошли слова из языков тех народов, бок о бок с которыми жили евреи на протяжении веков, а их было немало. Чтобы окончательно запутать дело, добавлю, что в идише используется алфавит иврита!
Еще в начале ХХ века книги на этом языке писал известный еврейский автор Шолом Алейхем. Но Холокост уничтожил народ, говоривший на идише, и привел к вымиранию языка.
Вот так парадоксально распорядилась история: мертвый язык иврит возрожден и живет, а идиш – в недавнем прошлом язык миллионов евреев – почти исчез, и если и говорят на нем в наши дни, то лишь единицы. Теперь он интересен в основном ученым, изучающим мертвые языки, и тем, кто хочет изучать его из личных соображений (связь с языком предков, религиозные тексты и т. п.).
Местная валюта
Местная валюта называется шекель, а мелкие металлические деньги – агороты. Соответственно, в одном шекеле 100 агорот. Мы везли с собой доллары и меняли их на шекели. Обменный курс в среднем где-то 3.4 шекеля за 1 доллар. Переводить в рубли очень просто: нужно к цифре в шекелях добавить еще ноль, получатся рубли, т. е. примерно 1:10.
Израильский шекель (банкнота в 50 шекелей).
Однажды нас чуть не обсчитали в уличном обменном пункте. Банки в Тель-Авиве работают по такому причудливому расписанию, что мы чаще всего видели табличку, что банк закрыт. А открыт он был ранним утром, когда все нормальные туристы спят или завтракают. Поэтому приходилось пользоваться уличными обменниками, которые иногда по совместительству торгуют всем подряд типа киоска или палатки.
Зазывала – высокий, худой и седой мужчина – привлек нас с улицы, предложив довольно выгодный курс. Как бы невзначай он спросил нас, сколько мы уже находимся в Израиле. Видимо, хотел определить, разобрались ли мы уже в местных деньгах или еще нет. И вот когда он должен быть дать нам металлическую мелочь, он якобы перепутал монеты и вместо 6 шекелей (60 рублей) дал 60 агорот (6 рублей). Пустячок, а неприятно. Но я уже успела сориентироваться, что к чему, заметила обман и сказала об этом мужу.
Меняла тем временем успел от нас отвернуться и начал что-то оживленно обсуждать с подошедшим покупателем. Мы не сдавались, стояли у прилавка и настаивали на том, чтобы нам выдали правильную сдачу. В итоге, поняв, что просто так от нас не отделаться, меняла с каменным лицом молча забрал у меня 60 агорот и выдал 6 шекелей. После чего отвернулся и вдруг прямо-таки разорался на кого-то, разошелся так, что чуть ли не устроил истерику. Видимо, не понравилась наша настойчивость, и хотелось сорвать на ком-то гнев. А мы спокойно пошли себе дальше.
В один из последующих дней мы еще раз видели его же на той же улице. И представьте себе, он с нами очень любезно поздоровался и даже заулыбался. Восточное коварство, наверное.
Всякая всячина
В Тель-Авиве много любителей собак. Гуляя по городу, я часто встречала людей, ведущих на поводке по две, а то и по три собаки. Сначала это вызывало легкое недоумение: неужели здесь так любят животных, что все заводят по нескольку питомцев сразу? Однако вопрос разрешился, когда мне попалось объявление об услугах по выгулу собак. Здесь это один из видов подработки.
Заодно пару слов и о местных кошках. Дело в том, что кошки в Израиле необычные: они отличаются своими непомерными размерами. В среднем, израильская кошка в 1.5—2 раза крупнее московской. Почему-то у них очень длинные ноги, да и сами они огромных размеров. Поиски в интернете на эту тему не увенчались особым успехом. Все констатируют, что кошки в Израиле большие, но нигде не говорится, что это особая порода или почему они такие. Надо отметить, что местные автомобилисты не отличаются особой жалостью: при нас машина наехала на кошку на дороге, так что та стукнулась о бампер, завертелась на месте и дико зашипела, а потом помчалась в кусты. И хоть бы что: водитель не притормозил, не остановился, а поехал себе дальше.