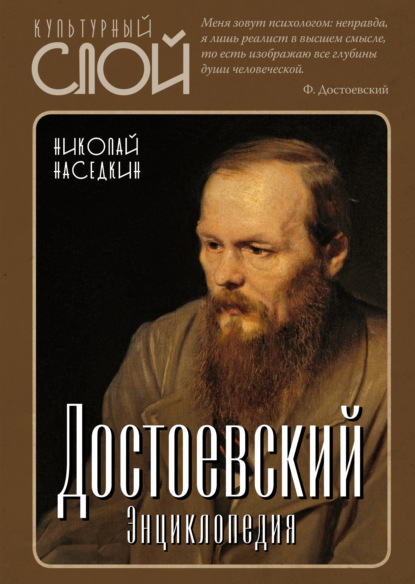По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Достоевский. Энциклопедия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Катерина Ивановна, как и ее полная тезка Катерина Ивановна Мармеладова из «Преступления и наказания», как и многие (все!) героини Достоевского, нервную систему имеет совершенно далекую от идеала. Одна из самых драматично-напряженных сцен романа – встреча Катерины Ивановны и Грушеньки Светловой. Первая, поддавшись чарам второй и поверив поначалу, что та пришла к ней с дружбой, растрогалась, взялась расхваливать при Алеше гостью в глаза и даже ручку ей в припадке восторга трижды поцеловала. В ответ Грушенька ее страшно унизила и надсмеялась над ней в глаза, тоже при Алеше. С Катериной Ивановной случился нервический припадок: она даже кинулась на соперницу с кулаками, потом рыдала до спазм в горле, а затем, выпроваживая невольного свидетеля ее позора Алешу, весьма многозначительно выкрикнула-заявила, словно намекая на самоубийство: «Не осудите, простите, я не знаю, что с собой еще сделаю!» В другой раз, опять же Алеше (этому исповеднику всех потенциальных самоубийц в романе!), Катерина Ивановна заявила уже непреложно и впрямую, что если и Иван ее бросит-оставит, как некогда Дмитрий, она «убьет себя». А между тем, именно показания Кати, предъявленное ею «пьяное» письмо Мити с угрозами убить отца и способствовали осуждению Мити, но когда она приходит к нему в тюрьму, то вдруг признается, что по-прежнему безумно любит его, Митю…
В образе, в характере Катерины Ивановны отразились некоторые черты первой жены писателям Д. Достоевской.
ВИДОПЛЯСОВ Григорий(«Село Степанчиково и его обитатели»), лакей Егора Ильича Ростанева, «секретарь» Фомы Фомича Опискина. «Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Все это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву р, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, – словом, он весь был пропитан деликатностью, субтильностью и необыкновенным чувством собственного достоинства…»
Видоплясов служил прежде у «одного учителя чистописания», обучился сам писать, учит теперь сына Ростанева Илюшу, за что полковник ему платит отдельно по приказу Фомы Фомича полтора целковых за урок. Мало этого, Видоплясов и по окрестным помещикам со своими уроками ездит – и там ему платят. Лакей этот особенно интересен тем, что он – «поэт». Его поэтический дар характеризует в повести восторженный полковник Ростанев. По его словам, у Видоплясова «настоящие стихи», что он «тотчас же всякий предмет стихами опишет», что это «настоящий талант», что у него в стихах «музы летают» и что, наконец, «он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет». Доморощенный поэт под покровительством Фомы Опискина на полном серьезе намеревается издать книжку под названием «Вопли Видоплясова», но самолюбивый автор опасается насмешек над фамилией и требует почтительно, чтобы «сообразно таланту и фамилия была облагороженная». Но «поэту» не везет: за короткий срок он становится поочередно Олеандровым, Тюльпановым, Верным, Улановым, Танцевым и даже Эссбукетовым, но презираемая им дворня упорно подбирает к очередной «облагороженной» фамилии отнюдь не благородные рифмы… Вот уж действительно, можно носить довольно заурядную фамилию Пушкин и быть гением, а можно быть Эссбукетовым, «рифмовать любой предмет», но оставаться лакеем и в жизни, и в литературе. Такие поэты, высмеянные Достоевским, беспокоятся о чем угодно, только не о том – есть ли у них талант? Только тем, что колоссальный образ Фомы Опискина затенил Видоплясова, и можно, кажется, объяснить тот парадокс, что имя этого лакея-поэта не стало нарицательным.
В финале повести сообщается, что лакей-поэт «давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер». Видоплясов является, в какой-то мере, предтечей лакея Смердякова из «Братьев Карамазовых».
ВИРГИНСКАЯ (девица Виргинская) («Бесы»), «студентка и нигилистка»; сестра Виргинского, племянница Капитона Максимовича. Она появляется в главе седьмой «У наших»: «Всех дам в комнате было три: сама хозяйка, безбровая ее сестрица и родная сестра Виргинского, девица Виргинская, как раз только что прикатившая из Петербурга. <…> Прибывшая девица Виргинская, тоже недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, еще почти в дорожном своем костюме, с каким-то свертком бумаг в руке, и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. <…> Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя забота; она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше, по всем университетским городам, чтобы «принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту». Она везла с собою несколько сот экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. <…> Майор приходился ей родным дядей и встретил ее сегодня в первый раз после десяти лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щеки ее были красны, как клюква: она только что разбранилась с дядей за убеждения по женскому вопросу…»
Эта девица весьма напоминает Нигилистку из неопубликованной пьесы-фельетона в стихах «Офицер и нигилистка», тем более что все время спорит-дискутирует не только с ненавистным ей Гимназистом, но и со своим дядей-майором Капитоном Максимовичем. Впоследствии она на скандальном бале в пользу гувернанток выскочит на сцену в самом конце, по-прежнему со свертком под мышкой, в сопровождении «ненавистного» Гимназиста и начнет агитировать-кричать о бедственном положении студентов..
Прототипом девицы Виргинской послужила 19-летняя А. Дементьева-Ткачева, на средства которой нечаевцами была устроена подпольная типография, в которой она напечатала сочиненную ею прокламацию «К обществу» о бедственном положении студентов.
ВИРГИНСКАЯ Арина Прохоровна(«Бесы»), акушерка; супруга Виргинского, сестра Шигалева. Хроникер так характеризует «передовую» жену Виргинского вкупе с другими дамами семьи – теткой и свояченицей: «Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато, именно, тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек, и по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно все, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. М-me Виргинская занималась у нас в городе повивальною профессией; в девицах она долго жила в Петербурге…» И далее приводится характерный пример-эпизод супружеского «счастья» в эмансипированном семействе: «Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. <…> Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал наконец третировать хозяина свысока…» Правда, однажды Виргинский, впав в истерику, оттаскал капитана Лебядкина за волосы, но потом опять-таки просил за это у супруги прощения на коленях.
Подкаблучничество Виргинского объяснялось отчасти тем, что дом их принадлежал жене, да и доход она имела немалый, но главную роль, конечно, играла ее натура: «Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нем не было. (К слову, в доме этом проходила сходка-собрание «наших». – Н. Н.) <. > Сама же m-me Виргинская, занимавшаяся повивальною профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице; даже ниже попадьи, несмотря на офицерский чин мужа. Соответственного же ее званию смирения не примечалось в ней вовсе. А после глупейшей и непростительно откровенной связи ее, из принципа, с каким-то мошенником, капитаном Лебядкиным, даже самые снисходительные из наших дам отвернулись от нее с замечательным пренебрежением. Но m-me Виргинская приняла все так, как будто ей того и надо было. Замечательно, что те же самые строгие дамы, в случаях интересного своего положения, обращались по возможности к Арине Прохоровне (то есть к Виргинской), минуя остальных трех акушерок нашего города. Присылали за нею даже из уезда к помещицам – до того все веровали в ее знание, счастье и ловкость в решительных случаях. Кончилось тем, что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах; деньги же любила до жадности. Ощутив вполне свою силу, она под конец уже нисколько не стесняла себя в характере. Может быть, даже нарочно, на практике в самых знатных домах, пугала слабонервных родильниц каким-нибудь неслыханным нигилистическим забвением приличий или наконец насмешками над «всем священным» и именно в те минуты, когда «священное» наиболее могло бы пригодиться. <…> Но хоть и нигилистка, а в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезговала не только светскими, но и стародавними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу. Ни за что не пропустила бы она, например, крестин повитого ею младенца, причем являлась в зеленом шелковом платье со шлейфом, а шиньон расчесывала в локоны и в букли, тогда как во всякое другое время доходила до самоуслаждения в своем неряшестве. И хотя во время совершения таинства сохраняла всегда «самый наглый вид», так что конфузила причет, но по совершении обряда шампанское непременно выносила сама (для того и являлась, и рядилась), и попробовали бы вы, взяв бокал, не положить ей «на кашу»…»
О внешности Виргинской (в момент собрания «у наших») говорится вскользь: «Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою недурная, несколько растрепанная, в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: «видите, как я совсем ничего не боюсь».
М-me Виргинская активно участвует в диспутах «наших», а затем даже, можно сказать, непосредственно принимает участие в ключевом действе: пытаясь вместе с мужем каким-то образом избежать участия его в убийстве Шатова и не совсем веря в предательство Шатова, она охотно бежит ночью помогать внезапно объявившейся шатовской жене Marie при родах, дабы заодно разведать обстановку.
ВИРГИНСКИЙ(«Бесы»), чиновник, член революционной пятерки, соучастник (наряду с Липутиным, Лямшиным, Толкаченко и Эркелем) убийства Шатова Петром Верховенским; муж Арины Прохоровны Виргинской, брат девицы Виргинской, племянник Капитона Максимовича. Поначалу он представлен как один из постоянных посетителей «вечеров» у Степана Трофимовича Верховенского: «Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя по-видимому и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. <…> Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», – говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. <…> Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. <…> Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рощу кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях…»
Впоследствии сам Виргинский стал принимать «гостей». «Виргинский жил в собственном доме, то есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный, и посторонних жильцов в нем не было…» Именно здесь, у Виргинских, состоялась сходка «наших» под видом празднования дня рождения хозяина.
В кульминационной сцене убийства Шатова Виргинский, который и до того пытался предотвратить преступление, ведет себя крайне пассивно, а затем, вслед за Лямшиным, почти впадает в истерику и все твердит-повторяет: «Это не то, не то! Нет, это совсем не то!..» Это и смягчило его участь после ареста «наших»: «Виргинский сразу и во всем повинился: он лежал больной и был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался: «с сердца свалилось», проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из «светлых надежд» своих, проклиная в то же время политический путь (в противоположность социальному), на который был увлечен так нечаянно и легкомысленно «вихрем сошедшихся обстоятельств». Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле, кажется, и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи…»
Прототипами Виргинского в какой-то мере послужили «нечаевцы» П. Г. Успенский и А. К. Кузнецов.
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ(«Двойник»), коллежский асессор; племянник Андрея Филипповича. Именно этот блестящий молодой чиновник (ему 25 лет) – главный претендент на руку Клары Олсуфьевны Берендеевой: на балу в ее честь он смотрится уже совсем женихом, танцует с виновницей торжества, держится все время рядом с ней, вызывая ревнивую зависть униженного Якова Петровича Голядкина: «С другой стороны кресел держался Владимир Семенович, в черном фраке, с новым своим орденом в петличке…» Повествователь в преувеличенно торжественном тоне так аттестует его: «Я ничего не скажу, но молча – что будет лучше всякого красноречия – укажу вам на этого счастливого юношу, вступающего в свою двадцать шестую весну, – на Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого блестящего юноши. Я не скажу ничего, хотя не могу не заметить, что все в этом юноше, – который более похож на старца, чем на юношу, говоря в выгодном для него отношении, – все, начиная с цветущих ланит до самого асессорского, на нем лежавшего чина, все это в сию торжественную минуту только что не проговаривало, что, дескать, до такой-то высокой степени может благонравие довести человека!..» В последний момент, когда бедного господина Голядкина увозили в желтый дом, ему показалось, что Владимир Семенович прослезился.
ВОРОХОВА(«Братья Карамазовы»), генеральша; благодетельница-воспитательница Софьи Ивановны Карамазовой, родственница Ефима Петровича Поленова. Повествователь сообщает: «Софья Ивановна была из «сироток», безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральши старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, – до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, по-видимому не злой старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности..» Когда Софья убежала с Федором Павловичем Карамазовым, благодетельница жестоко обиделась: «О житье-бытье ее «Софьи» все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения, и слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и надо, это ей Бог за неблагодарность послал»…» Но после смерти воспитанницы отыскала заброшенных отцом ее сыновей Ивана и Алексея Карамазовых, сама тоже вскоре умерла, но успела отписать им в завещании по тысяче рублей, да, кроме того, как бы по наследству передала их на воспитание Ефиму Петровичу Поленову.
ВРУБЛЕВСКИЙ(«Братья Карамазовы»), товарищ и «телохранитель» пана Муссяловича. Он при первой встрече в Мокром сразу поразил Дмитрия Карамазова своим высоким ростом: «Другой же пан, сидевший у стены, более молодой, чем пан на диване, смотревший на всю компанию дерзко и задорно и с молчаливым презрением слушавший общий разговор, опять-таки поразил Митю только очень высоким своим ростом, ужасно непропорциональным с паном, сидевшим на диване. «Коли встанет на ноги, будет вершков одиннадцати», – мелькнуло в голове Мити. Мелькнуло у него тоже, что этот высокий пан, вероятно, друг и приспешник пану на диване, как бы «телохранитель его», и что маленький пан с трубкой, конечно, командует паном высоким…» Митю недаром, видно, поразил рост «телохранителя» – он предполагал, что без ссоры-драки дело не обойдется. Но поляки оказались в итоге жидковаты и уступили «поле битвы»: в решающий момент Митя бросился на Врублевского, «обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг вынес его из залы». Перед этим еще и выяснилось, что пан Врублевский – карточный шулер, подменивший колоду карт. Более того, когда позже началось дознание и допросили поляков, то спесивый «пан» Врублевский «оказался вольнопрактикующим дантистом, по-русски зубным врачом».
ВУРМЕРГЕЛЬМ, барон(«Игрок»), «длинный, сухой пруссак, с палкой в руке», которого Алексей Иванович оскорбил (вместе с супругой, баронессой Вурмергельм) по капризу Полины. «Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие…».
Вероятно, прототипом спесивого барона послужил Ф. Майдель.
ВУРМЕРГЕЛЬМ, баронесса(«Игрок»), супруга барона Вурмергельма. «Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идет – точно всех чести удостоивает…» Игрок, оскорбив супругов Вурмергельм по капризу Полины, потом так объяснял происшествие Генералу. «Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «ja wohl» [нем. да, конечно], которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг это «ja wohl», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно… Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо (уверяю вас, что вежливо) сказал: «Madame, j’ai l’honneur d’Ktre votre esclave» [фр. «Мадам, честь имею быть вашим рабом»]. Когда барон обернулся и закричал «гейн!» [от нем. gehen – убирайтесь!] – меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: «Ja wohl!» Я и крикнул два раза: первый раз обыкновенно, а второй – протянув изо всей силы. Вот и все…» Здесь самое знаменательное – «как будто бы я был червяк», ибо фамилия «Вурмергельм» – это по сути «червяк в квадрате»: от нем. Wurm, Wurmer – червь, глист; гр. Helmins – червь, глист. Впрочем, если и вторая половина фамилии образована от немецкого слова Helm (шлем, каска), то фамилию чванливых барона и баронессы можно перевести как «червь в шляпе».
ГАВРИЛА ИГНАТЬЕВИЧ(«Село Степанчиково и его обитатели»), камердинер Егора Павловича Ростанева, бывший «дядька» Сергея Александровича. Последний, встретив впервые Гаврилу после долгой разлуки, застал его за странным занятием: «Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием…» Оказалось, Фома Фомич Опискин лично «за грубость и в наказание» обучает старого слугу, «как скворца», французскому языку и строго экзаменует. В одной из сцен, не выдержав, Гаврила «бунтует»: «Нет, Фома Фомич, – с достоинством отвечал Гаврила, – не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ Божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, – дай Бог им царство небесное – Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!..» Однако ж бунт старика был не долог и он опять «с благоговением» потом смотрел на Фому, особенно после его временного изгнания. В финале повести сообщается, что «Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски».
ГАВРИЛКА(«Записки из Мертвого дома»), арестант – «известный плут и бродяга, малый веселый и бойкий», которого «все любили за веселый и складный характер». Гаврилка пришел в острог, где уже отбывали срок Ломов и его племянник за преступление, совершенное как раз Гаврилкой, – убийство нескольких ломовских работников-киргизов. Ломов пырнул в драке Гаврилку шилом, но, как оказалось, не за это, а просто приревновал его то ли к Чекунде, то ли к Двугрошовой.
Прототип Гаврилки – Г. Евдокимов.
ГАГАНОВ Артемий Павлович(«Бесы»), помещик, владелец «славного» поместья Духово с «хорошим» домом (эпитеты Петра Верховенского), отставной капитан гвардии; сын Павла Павловича Гаганова. Он специально бросил и гвардию, и Петербург, дабы отомстить Ставрогину за отца. Ставрогин, приглашая в секунданты Кириллова, поясняет суть дела: «Этого Гаганова, – начал объяснять Николай Всеволодович, – как вы знаете, я встретил месяц тому, в Петербурге, в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть очень дерзким. Я вам тогда говорил; но вот чего вы не знаете: уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но однако неприличное в высшей степени и уже тем странное, что в нем совсем не объяснено было повода, по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же, тоже письмом, и совершенно откровенно высказал, что, вероятно, он на меня сердится за происшествие с его отцом, четыре года назад, здесь в клубе, и что я с моей стороны готов принести ему всевозможные извинения, на том основании, что поступок мой был неумышленный и произошел в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал; но вот теперь я застаю его здесь уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец сегодня приходит это письмо, какого верно никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями «ваша битая рожа». Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты…»
На дуэли, превратившейся, благодаря хладнокровию Ставрогина и его нежеланию стрелять в противника, почти в фарс, в пародию на поединок из лермонтовского «Героя нашего времени», Гаганов-младший ведет себя очень достойно, но бешенство мешает ему в полной мере насладиться мщением – он стреляет трижды и мажет: еще бы, ведь он еще перед началом «вышел из своего шарабана весь желтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки».
Характерно, что с Артемием Павловичем коротко сошелся Петр Верховенский и всласть пользовался его гостеприимством.
ГАГАНОВ Павел Павлович(«Бесы»), помещик; отец Артемия Павловича Гаганова. Персонаж этот интересен тем, что попал однажды в неприятную историю, показавшую Николая Всеволодовича Ставрогина со странной стороны: «Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос!» Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и все людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова…» Ставрогин сразу же небрежно извинился, чем только усилил оскорбление, сатисфакцию за которое потребовал от него через четыре года, уже после смерти Павла Павловича, его сын – Артемий Павлович.
ГАЗИН (Газин Фейдулла)(«Записки из Мертвого дома», «Мужик Марей»), арестант, один из самых страшных острожных типов. «Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. Я видел в Тобольске знаменитого своими злодеяниями разбойника Каменева; видел потом Соколова, подсудимого арестанта, из беглых солдат, страшного убийцу. Но ни один из них не производил на меня такого отвратительного впечатления, как Газин. Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен, сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой; ходил сутуловато, смотрел исподлобья. В остроге носились об нем странные слухи: знали, что он был из военных; но арестанты толковали меж собой, не знаю, правда ли, что он беглый из Нерчинска; в Сибирь сослан был уже не раз, бегал не раз, переменял имя и наконец-то попал в наш острог, в особое отделение. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. Все это, может быть, и выдумывали, вследствие тяжелого впечатления, которое производил собою на всех Газин, но все эти выдумки как-то шли к нему, были к лицу. А между тем в остроге он вел себя, не пьяный, в обыкновенное время очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных; говорил очень мало и был как-то преднамеренно несообщителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке. Он торговал вином и был в остроге одним из самых зажиточных целовальников. Но в год раза два ему приходилось напиваться самому пьяным, и вот тут-то высказывалось все зверство его натуры. Хмелея постепенно, он сначала начинал задирать людей насмешками, самыми злыми, рассчитанными и как будто давно заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбегались от него и прятались; он бросался на всякого встречного. Но скоро нашли способ справляться с ним. Человек десять из его казармы бросались вдруг на него все разом и начинали бить. Невозможно представить себе ничего жесточе этого битья: его били в грудь, под сердце, под ложечку, в живот; били много и долго и переставали только тогда, когда он терял все свои чувства и становился как мертвый. Другого бы не решились так бить: так бить – значило убить, но только не Газина. После битья его, совершенно бесчувственного, завертывали в полушубок и относили на нары. «Отлежится, мол!» И действительно, наутро он вставал почти здоровый и молча и угрюмо выходил на работу. И каждый раз, когда Газин напивался пьян, в остроге все уже знали, что день кончится для него непременно побоями. Да и сам он знал это и все-таки напивался. Так шло несколько лет. Наконец, заметили, что и Газин начинает поддаваться. Он стал жаловаться на разные боли, стал заметно хиреть; все чаще и чаще ходил в госпиталь… «Поддался-таки!» – говорили про себя арестанты…»