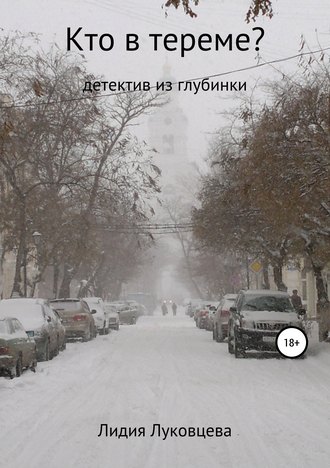
Кто в тереме?
– Какие подозрения! Ничего про ее личную жизнь я не знаю. Некогда особо было по душам разговаривать: обе работаем, у меня внуки. Да и молчуньи мы с ней подобрались. До нее у меня была квартирантка – трещала, как сорока, и по делу, и без дела. Прямо утомляла меня.
– Оля не трещала?
– Не-е-ет! Но в последнее время как-то ожила, повеселела. Даже, я бы сказала, расцвела.
– Вы думаете, парень?
– Не уверена, но скорее всего. Она на мои шутки отшучивалась или отмалчивалась, но этого же нельзя не заметить: стрижку другую сделала, бровки выщипала, недавно попросила меня как-нибудь съездить с ней на вещевой рынок, помочь юбку купить. Сама как-то робела вещи приобретать. Не слишком часто ей приходилось их покупать. Родителям помогала. И вдруг – на тебе!
– А почему скрытничала, как вы думаете?
– Да кто ж ее знает! Может, сглазить боялась, все-таки возраст уже для девушки приличный, замуж давно пора.
Бурлаков сделал пометку в блокноте.
– Оленька, Оленька, что ж ты наделала! – запричитала вдруг хозяйка, противореча своим же, сказанным недавно словам, что Оля не могла наложить на себя руки.
– Валентина Трофимовна, успокойтесь, пожалуйста! И покажите нам комнату Оли.
Осмотр не дал ничего. Телефон не нашелся, дневник Ольга не вела. По крайней мере, признаков его существования не обнаружилось ни в письменном столе, ни в тумбочке, ни в двух сумочках – черном ридикюльчике и зеленом саквояжике.
Да и кто их сейчас ведет? Все душевные излияния – в интернете, для широкой аудитории. Типа, давайте все, пишите отзывы – я ищу у вас моральной поддержки. Душевный эксгибиционизм.
Никаких тайн в этой девичьей келье не обнаружилось.
– Валентина Трофимовна, а сумочек у нее всего две было, не знаете?
– Три. Еще красненькая, небольшая такая, на цепочке.
Сумочки, как и телефона, ни возле тела, ни поблизости не обнаружилось. Как и в ординаторской, как и в комнате на пятом этаже недостроенного корпуса, откуда она, предположительно, шагнула вниз, во тьму.
Мальчишки, обнаружившие тело, позарились? Нет, мальчишки близко не подходили. Рядом с телом не было следов. Как вариант, сумочку мог забрать кто-то, оказавшийся у тела намного раньше мальчишек. А следы смыл хлюпавший ночью дождь. Но тогда, получается, сумку могли забрать только сразу после падения – до дождя.
Кто? Не тот ли, кто, возможно, помог ей шагнуть?
– Валентина Трофимовна, вот вы предположили, что у Оли появился парень. Как давно это произошло?
– Даже не знаю… Говорю же, она этой темы не хотела касаться, отшучивалась да отмалчивалась. Ну, где-то с месяц… Может, два…
– Она стала чаще уходить из дома? Принаряжалась?
– Да нет, из дома не чаще уходила. Принаряжалась – да! Когда шла на смену. У нас ведь в отделении не только старичье да глубоко женатые лежат, и молодые-интересные бывают. Но у нас с ней дежурства не совпадали, да мы обе еще подрабатывали на полставки. Случалось, и виделись не каждый день.
– А вчера?
– Вот и вчера: она с ночного пришла, когда я уже убежала. А с работы я припозднилась, к внукам забежала, так что и не знаю, в какое время она из дома ушла.
Хозяйка проводила оперативников до калитки.
Откуда-то из-за сараев выскочил антрацитового цвета пес и, черной молнии подобный, устремился к незваному гостю. Хозяйка вела себя индифферентно и классическое «пошел вон!» кричать не торопилась.
Бурлаков поднапрягся – пес был немалого росточка. Собаки в артюховских дворах на привязи, по большей части, не сидят, разве что уж особо впечатляющих размеров и агрессивные. Они с малолетства дышат воздухом свободы, не зная цепи, и рассекают по двору, где вздумается.
Поэтому гость из местных, впервые посетивший чей-либо дом, всегда заглядывает опасливо в гостеприимно распахнутую калитку и задает традиционный вопрос:
– Собака есть?
Следует традиционный же ответ:
– Не бойтесь, она не кусается!
При этом в голове гостя-неартюховца рождается резонный вопрос: а зачем тогда держать во дворе собаку, если не для охранных функций? Если бы он его высказал вслух, то получил бы столь же резонный ответ: ну, а как же во дворе без собаки?
– Не бойтесь, – вымолвила, наконец, Валентина Трофимовна, – Блэшка – ласковый, он не тронет.
Она не была оригинальной: все артюховские хозяева уверены в лояльности своих питомцев к гостям. Случается, что они на этот счет сильно заблуждаются.
Произносила хозяйка свое успокаивающее предупреждение, когда Блэшка с разбегу уже поставил грязные лапы Бурлакову на грудь и, свесив розовый язык набок, одарил его теплым проникновенным взглядом, как бы спрашивая, все ли у капитана в порядке.
– Фу, Блэк, фу! – постфактум разродилась хозяйка.
А какой, к черту, порядок? Теперь вот куртку отчищать.
«Да ты, похоже, по жизни тормоз», – констатировал впавший в меланхолию капитан, адресуясь мыслью к хозяйке Блэшки. По его пристрастному мнению, Валентина Трофимовна наверняка могла бы и больше рассказать об Оле, все же два года у нее девушка квартировала. Можно сказать, хозяйка – самый близкий человек из Олиного окружения.
Сельская девочка, одна в городе, родители далеко… Если между ними и впрямь такие теплые отношения были, должна была тянуться к хозяйке как к матери… Но не на полиграф же ее тащить.
Вот если бы не сам Бурлаков ее опрашивал, – пришла внезапно мысль, – а к примеру, знакомицы-приятельницы, Людмила Петровна со товарки! Они бы порылись в глубинах подсознания Валентины Трофимовны! В дружеской женской непринужденной беседе, да за чашкой, а то и рюмкой чая… Возможно, очень полезные для следствия мелочи и подробности всплыли бы. Или что там у нынешних пенсионерок котируется?
«Мохито», «Амаретто», – передразнил он мысленно Людмилу Петровну, хотя именно эта последняя стыдливо призналась в своей слабости к чистому, классическому, русскому самодеятельному напитку. Производства Антонины Семеновны, естественно.
Вот уж выездной полиграф, с доставкой на дом! Мысль мелькнула шутливая, в порядке бреда, но не пропала втуне, а так и застряла у капитана в сознании.
Вот с Кирой Журавлевой – ведь очень любопытные вещи рассказала ему Людмила Петровна, позвонив недавним вечером. Очень любопытные. Где-то рядом с ней, он слышал, шумно сопереживала Лидия Федоровна Херсонская, вставляла ремарки. Сама пообщаться не захотела, не снизошла…
– А чего ты от нее хочешь? – спросил у него внутренний голос.
Как и голос Людмилы Петровны, он имел обыкновение вступать в диалог спонтанно. Может, они все к этому склонны, внутренние голоса? Как незваные гости – появляются всегда неожиданно и ведут себя бесцеремонно. И хочется поскорее от них избавиться.
– Да ничего я от нее не хочу! – рассердился Бурлаков. – Странно мне было бы чего-то от нее хотеть. Она похоронила любимого мужа, я – женатый человек! Вроде бы. Просто… приятная женщина…
– Ага! – внутренний голос сочился сарказмом. – Особенно сейчас. Замученная, неухоженная, страдающая… К тому же грубиянка!
– Все равно… – капитан и сам почувствовал слабость этого своего аргумента. – Симпатичная, – добавил еще один, чтобы подкрепить предыдущий.
– Уж с твоей-то женой не сравнить!
Это была чистая правда. Лена была хороша. Бурлаков попробовал представить, как вела бы себя его жена, случись с ним такая история. Бегала бы по заброшенным дачам, ведомая лишь интуицией и отчаянием? Билась бы в истерическом припадке над нелепо погибшим мужем – алкашком, между прочим? Стала бы, вообще, вытаскивать его из алкогольной бездны?
Капитан подумал, что первая мысль Лены при сообщении об его смерти была бы о приличествующем траурной церемонии наряде. Беззаветной преданностью – вот чем зацепила его эта женщина, Лида Херсонская.
Впрочем, разве кто-нибудь смог объяснить, почему даже в уличной толпе взгляд выхватывает конкретную женщину? Идут себе мимо и идут… Красивые, симпатичные, хорошенькие и не очень. И вдруг одна привлекает внимание – чем? Жестом, гримаской, улыбкой, тембром голоса. И она может быть вовсе не красавицей, а взгляд задерживается на ней, и других уже нет.
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она»… Может, вправду, как древние пращуры, мы определяем свою половинку по запаху?
– Ну, ты загнул! – ухмыльнулся внутренний голос.
Бурлаков решил свернуть дебаты. Внутренний голос, похоже, пришел к такому же решению. Его незваный гость завершил визит, оставив последнюю реплику за собой.
Все же настроение замначальника угрозыска немного улучшилось. В конце концов, Блэшка не нанес ему ни физических увечий, ни материального ущерба, а натолкнул на идею. Куртка высохнет, и грязь отчистится легко. А над посильной помощью подруг можно подумать. Авось чего надумается конструктивного.
Опять же, с Кирой! На сей раз свою лепту в расследование смерти Гарика внесла другая «подружайка» – вернувшаяся из санатория Зоя Васильевна Конева. Как же кстати случилась у нее встреча с подругой студенческой юности Ритой!
Что ж, надо опять ехать в колледж… Кто-то же должен знать хоть что-нибудь об окружении Киры и Юли. Какая-нибудь их одногруппница должна же вспомнить хоть одного представителя мужского пола, крутившегося рядом с ними? Ну и ту драку, за которую Киру едва не поперли из колледжа…
Кира Журавлева

Кира темнила, капитан это чувствовал. Если при первом допросе она вся была на эмоциях, на грани, что и понятно, то потом монотонно бубнила заученные ответы одними и теми же словами.
Опытные сокамерницы явно провели с ней краткий курс криминально-правового ликбеза. Гонор, блатота, пальцы веером!
Бурлаков вначале опасался столкнуться с еще одним нервным срывом, все же девчонка – не опытная сиделица-рецидивистка. Но эти нынешние пацанки-первоходки своей наглостью его до сих пор частенько поражали. И все же видно было, что душонка ее трепещет от страха, а нахальство и упертость – бравада на 99%.
Поначалу, когда дверь их знаменитого шкафа со зловещим подвыванием начинала свое обычное действо, Кира вздрагивала и испуганно оглядывалась, потом перестала обращать внимание, как на докучливый материнский зов посреди апофеоза игры – «обедать!».
При первом допросе, когда Бурлаков отвлекся на телефонный разговор, она скучающим взглядом обводила кабинет, и взор ее наткнулся на яркое пятно, не вписывающееся в стилистику этого помещения, – лежавшие на шкафу зонтики, до сих пор невостребованные.
– Юлькин? – кивнула в их сторону, когда Бурлаков закончил разговор.
– Узнали?
– Овца, – туманно выразилась отроковица.
– Где? – поинтересовался опер.
Кира дернула уголком губ, состроив пренебрежительную гримасу, не оценила дешевого ментовского юмора.
– Это вы к тому, что Юля вас, типа, заложила?
– А то нет?
– Нет, Кира. Вопрос времени. И девчонки, которых вы запугали, Барбашова со Снегиревой, – признались, что не видели ни вас, ни Юлю в тот день в спортзале. Вы сбежали с лекции, да, но не было у Юли никакой тренировки.
Бурлаков встал со стула, решив размять ноги, но почти сразу же уселся на уголок стола.
– Есть свидетели, которые видели вас у дома Антонины Семеновны именно в то время, когда вы, якобы, в спортзале наблюдали за тренировкой Юли. И дверь в квартиру была открыта своим ключом, следов взлома не нашли. Просто, в случае, если бы она не пришла с повинной, ответственность для нее была бы другая.
– А теперь какая?
– А теперь, прежде всего, Юле предстоит серьезное лечение. И длительное. Убивать свою бабушку и не свихнуться способен не каждый человек. У вас на свою бабушку рука поднялась бы?
Девушка передернулась.
– Мою бабушку? – захлебнулась она. – Мою бабушку? А зачем мне ее было убивать? Какой смысл? А и не жалко было бы, если бы ее и убили! Да кому в голову придет убивать старую алкашку! Она же посмешищем была для всей нашей пятиэтажки, да и не только нашей! Она напьется в зюзю, на свой пятый этаж взобраться не может, уснет на чьей-нибудь площадке, обоссытся и валяется в луже, а люди через нее переступают, ругаются! И мать моя не лучше, разве что под забором не валяется! А Юлькина бабка на этом деньги зарабатывала, людей спаивала.
– То есть, Юлину бабушку убивать был смысл?
– А чего она!.. Их у нее полно!
– Откуда вам это известно?
– Да Юлька сказала, господи!
– Она их все же зарабатывала, каким-никаким, а трудом. Но мы сейчас не об ее моральном облике говорим. Мне интересно, вами-то одно лишь чувство справедливости двигало? Вы здесь – этакий Робин Гуд? Или просто решили, что ее деньги вам нужнее?
– Чего-о-о?
– Того самого, – махнул рукой капитан. – Разбойник был такой благородный в Англии. Отнимал у богатых, раздавал бедным.
– А-а-а… знаю, Шебурский лес… – продемонстрировала Кира интеллектуальную активность.
– Шервудский, если уж на то пошло.
– Да без разницы! Один фиг, заграница.
– Так вы для себя отнять хотели, или все же поделить с кем-то?
– Да не хотела я ее убивать! И разве Юлька мне бы позволила! Она же прыгала на меня как собачонка, пришлось ей двинуть хорошенько! И не убили мы ее, она живая была, когда мы уходили!
– «Мы»?
– Ну, я, я! Юлька первой убежала, запсиховала.
– И оставила вас добивать ее бабушку?
– Да знала она, что я ее бабку не убью. Знала, что следом за ней, дурой, побегу! Я только попугать хотела, а бабка распсиховалась, орать начала.
– Кира, а сколько раз вы ткнули ножом Антонину Семеновну?
– Ну… раз пять…
– У нее на теле было девять порезов.
– Да? Надо же. Да разве я в тот момент считала? Я была… как это… в состоянии аффекта! Она меня разозлила, ишачка старая! Другая бы на ее месте уже обоссалась бы со страху, а этой лучше было умереть, чем деньгами своими тухлыми поделиться.
– А с чего бы ей было так пугаться? Разве она собиралась умирать? К бабушке пришла в гости внучка, с подругой, разве Антонине Семеновне могла прийти мысль в голову, что подруга внучки поднимет на нее нож?
– Ну, я подняла же, – буркнула Кира.
– А почему она должна была отдать вам свои деньги? Вы считаете, вам они нужнее, чем ей? – опять вернулся к теме капитан.
– Конечно! – вскинулась девушка. – Они у нее на черный день лежали, какой там еще «черный день»! А мне сейчас нужно было!
– Зачем так срочно?
– На операцию!
– Юля. Вы мне сейчас пургу гоните. Никакая операция по смене пола вам не нужна, и делать вы ее не собирались. Вопрос конкретный: зачем вам так срочно понадобились деньги, что вы пошли на разбой?
Тут Бурлаков «бил» уверенно, наверняка. Уже на втором допросе Киры он попросил поприсутствовать штатного психолога из отдела кадров, а тот, узнав суть проблемы, привел своего знакомого, гораздо лучше разбиравшегося в «узкой» теме. По договоренности с ними, в ходе допроса Бурлаков задал Кире несколько вопросов, не имеющих отношения к расследованию, но важных для понимания ситуации.
– Ни о какой смене пола речи идти не может. У нее типичная женская психология, она ощущает себя женщиной и чувствует себя вполне комфортно. Причина «отъема денег» – какая-то другая, – сделал вывод психолог.
Теперь, получив вопрос в лоб, Кира на несколько секунд потеряла контроль над собой. У нее буквально отвисла челюсть.
– Как… С чего вы взяли? – возмутилась она, от растерянности не слишком убедительно. – Да вы просто этот… Гомофоб и шовинист. И все. Больше ничего говорить не буду! Статья 51 российской Конституции. И вообще, с какой стати вы ко мне привязались? Общаться буду только со следователем и в присутствии адвоката!
Итак, это был второй вопрос, на котором Кира уходила в глухую несознанку. Первый – присутствовал ли при нападении кто-то еще, кроме них с Юлей. Кстати, Юля тоже твердила, что они были только вдвоем. Как же тогда умудрялась Кира справляться с крепенькой Юлькой-спортсменкой и одновременно наносить удары ножом ее вовсе не хилой бабушке?
И третий вопрос: у кого все это время укрывалась Кира?
Матушка Киры Журавлевой звалась Татьяной, а в местах, где приходилось ей трудиться, добывая хлеб насущный, еще и «Черной вдовой». Внешности она была самой обычной. Можно было бы сказать – невзрачной, а можно – неброской, но это не соответствовало бы истине.
Она была когда-то миловидна: роста невысокого, но впечатляющих форм. С какого бока на нее ни посмотри – выпирала какая-либо округлость: сзади – пышные ягодицы, в профиль – грудь, словно диванная подушка, взбитая чистоплотницей-хозяйкой в генеральную уборку, и живот – подушка семьдесят на семьдесят. Если смотреть спереди – две старательно взбитых диванных подушки и под ними – еще одна, взбитая с тем же старанием.
И, тем не менее, когда она начинала, по пьяни, считать своих мужиков, пальцев на одной руке ей уже не хватало, а пальцы другой руки были на исходе.
В свое время она окончила кулинарное училище, но готовила отвратительно, и в поварах ее не держали. К тому же весьма злоупотребляла спиртным. Но до работы была жадная и добросовестная. Посему и пребывала в посудомойках, да в периоды авралов чистила картошку и шинковала овощи.
Тем не менее, холодильник у нее был полон, всегда имелась хоть одна нераспечатанная бутылка, а уж распечатанных – и не одна. Мужья у нее были сплошь «гражданские» и мерли один за другим. Один повесился, другой угорел, уснув в машине, третьего крепко побили, повредив легкие, и он спустя время угас в туберкулезной больнице.
Первопричиной всех смертей был алкоголь, но очередной муж, вселившись в Татьянин дом, тихо радовался достигнутой земле обетованной, не предчувствуя последствий. Инициатива выпить почти всегда исходила от нее.
– Что ж меня – убить теперь, если я пью много?! – хвастливо отбивалась она от соседок, сторонниц здорового образа жизни. – Мне же надо расслабиться! Я же не виновата, что не пьянею и не болею, что моему организму много нужно!
Устойчивость к алкоголю была предметом ее скромной гордости.
Когда умирал очередной муж, соседки злословили:
– Таньку Бог на землю послал, чтоб она побольше алкашей извела!
Послав Таньку на землю с этой благой целью, Господь предусмотрел один важный момент: он не допускал рождения у нее детей: очередная любовная история всякий раз заканчивалась выкидышем. Но вот появился в ее жизни четвертый по счету муж, Паша, старше нее на 17 лет (ей в ту пору было 33).
Паша сводил Таньку в ЗАГС, и за те пять лет, что существовала их ячейка общества, один раз всего и побил, вернее – стукнул крепенько. Жизнь налаживалась.
Родилась девочка, Кира, слабенькая, семимесячная, но уцепилась за жизнь. Дочери едва исполнилось четыре года, как Пашка разделил участь предыдущих Татьяниных мужей, и в его случае был не суицид и не насилие, а закономерный итог бурно прожитой жизни, особенно последних пяти лет – цирроз печени.
Татьяна носила в кошельке его фотографию, демонстрировала ее всем желающим и делилась сентиментальными душераздирающими подробностями своей недолгой очередной семейной жизни.
– Такого, как Паша, я больше не встречу! Пять лет счастья! – не уставала повторять она. Фразу она услышала в очередном сериале.
Однако, не поплакав и полгода, занялась активными поисками нового кандидата в мужья, резонно рассудив: счастье-счастьем, но, раз Пашка не захотел остаться с ней на этом свете, значит – он не ее судьба. Кире нужен отец, как ребенку без отца, особенно девочке?!
Сколько тех отцов перевидала Кира! Она ненавидела всех, а мать в первую очередь. А также бабку и тетку, что устраивала свою жизнь и растила своих двух детей от двух мужей.
Другая тетка, со стороны отца, на мать ядом дышала, и против нее мать с малолетства настраивала Киру.
– Ш-ш-шалава! – шипела тетка.
– Какая я шалава? – бушевала мать в праведном гневе дома. – Меня что, по кустам таскают? У меня свой дом, слава богу!
Дом, кстати сказать, достался в наследство от Пашки и принадлежал ей только наполовину. Наследницей второй половины была Кира.
Через какое-то время появился Лешка. Он был немного моложе матери и нигде не работал, но клялся в большой и чистой любви, тоже звал в ЗАГС. Татьяна же всегда была сторонницей законных отношений и долго не кочевряжилась.
После регистрации прописала мужа у себя, попыталась заставить его трудоустроиться. И не единожды потом еще пыталась, пока, наконец, до ее слабого разума не дошло, что новый молодой муж и работа – вещи несовместные.
По характеру Татьяна была далеко не боец и быстро сдалась. Да и потом, есть же и другие качества у мужика, за которые его держат в доме. Тут подоспели двойняшки Сашка и Мишка, и Татьяна окончательно убедилась, что у Бога были свои соображения на ее счет: Бог не хотел, чтобы она плодила байстрюков, и давал ей деток только в законных браках.
И она продолжала пахать в своей кафешке поло– и посудомойкой, чтобы было чем кормить семью. Хозяин, Эдик, с которым, было дело, она несколько раз «перепихнулась» в начале трудовой деятельности в его кафе, то увольнял ее за появление на работе в нетрезвом виде, то звонил и срочно вызывал по случаю очередной производственной запарки. Татьяна была незлобива и безотказна.
Лешка тем временем сидел с детьми, а на помощь себе вызвал двоюродную сестру, тоже нигде не работающую пьянчугу, и тоже Таньку. Таньки быстро поладили, как будто были одной матери дети.
Общую идиллическую картину семейного счастья портила только вечно недовольная Кирина физиономия. К мату, на котором разговаривали у нее дома, она привыкла, и он ее не шокировал. Она на нем выросла, и сама изъяснялась не хуже. Отчим на ее девичье целомудрие не покушался, хотя может, его уже и на мать не хватало. А может, нутром чувствовал, что не стоит и пробовать: он знал, что у Кирки в кармане всегда имеется минимум перцовый баллончик. А может, и что посерьезнее.
– Чего ты опять скривилась? Чего тебе не так? – бушевала Танька-мать. Позволить себе побушевать, по складу характера, она могла только с дочерью.
– Да она всегда кривая ходит! – провоцировала мать новообретенная тетка, Танька номер два.
– Это у ней паралич! Лицевые мышцы заклинило, – подливал масла в огонь отчим.
Кира одаривала любимых родственников своим знаменитым взглядом, который мало кто мог выносить. Змеиным, говорила мать.
Глаза у Киры были материнские – большие, темно-карие, а взгляд отцовский: тяжелый, пронзительный. Она долго могла смотреть не мигая. Порой мамочка, не сдержавшись, вмазывала ей оплеуху:
– Чего уставилась, как кобра? – кричала она трусливо.
Кира улыбалась и уходила в свою комнату.
Тетка Ирина, сестра отца, рассказывала ей, что отец как-то хорошенько «приложил» мать из-за нее, Киры: за какую-то шалость мамочка врезала трехлетней девочке по попе. Ручка у маменьки была тяжелой, дамой она была эмоциональной, и эмоции сдерживать не умела. Кира улетела в угол и заорала, как резаная.
Папаня в тот день не был на работе, мама как-то не сориентировалась в запале и выпустила этот факт из виду. Поэтому тут же улетела кубарем в другой угол. А папа, вытирая слезинки ребенку, сказал жене:
– Будешь обижать Кирку – убью.
Маменька стала как-то более дисциплинированна. До самой папиной смерти. Теперь она самозабвенно и безнаказанно кричала:
– Змеюка! Папочкино отродье! Ноги повыдергаю и к отцу на небеса отправлю!
Иногда, когда Кира не могла уснуть сразу и мешала материнским забавам, та в пьяном угаре жгла над ее кроваткой спички и шипела:
– С..а, б… дь, спи уже, а то сожгу на х…р!
Девочка сотрясалась от рыданий, но не издавала ни звука. Умению рыдать беззвучно она научилась в раннем своем детстве. Как и искусно притворяться спящей под страстные крики мамули:
– Давай, ну давай же! А то я ничего не чувствую!
Танька уже забыла про минувшие «пять лет счастья». Счастье она воспринимала как факт сиюминутный. Будущее было скрыто от нее в туманной дымке, за прошлым она задергивала тяжелый занавес забвения. Сейчас ее счастье сидело с ней за столом, с лоснящейся от съеденного и выпитого рожей и покрасневшим носом. И науськивало, кулацкий подпевала:
– Все настроение всегда испортит своим похоронным видом!
Отца Кира помнила очень смутно. Помнила ощущение испуганного восторга: ночь, над ней звездное небо, а она, покачиваясь, плывет над землей. Это родители, припозднившись, возвращаются из очередных гостей, хорошо поддатые, а Кира едет у отца на плечах. Мать ведет его под руку, отца основательно штормит, но он изо всех сил старается ступать твердо, сознавая, что везет на себе ребенка.
Дочь, свое единственное и позднее дитя, он обожал. Кира помнила, как отец поймал во дворе ежика и принес показать дочке. Все уговаривал ее потрогать пальчиком иголки, да так и не уговорил. «Боюсь!» – кричала маленькая Кира.
Он с младенчества приучил ее к соленому – считал глупостью детские диеты и запреты. И, держа дочь на коленях, сидя за очередным гостевым столом, чистил ей малосольную кильку и скармливал. Или срывал с грядки перья лука, споласкивал под струей из садового шланга и угощал дочь.








