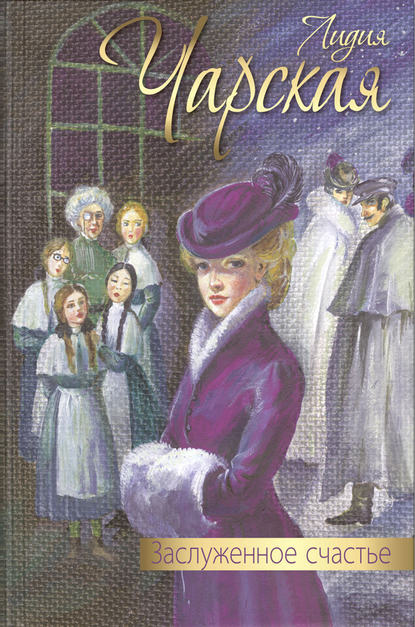По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Заслуженное счастье (сборник)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1914
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не уезжайте от нас, дорогая, милая, солнышко наше, мы так любим вас! – слышались взволнованные вздрагивающие голоса.
Магдалина Осиповна совсем растерялась. Сильные руки Зюнгейки обнимали ее дрожащие колени так крепко, что молодая девушка, колеблемая этим энергичным объятием, едва могла устоять на ногах.
Маленькая Маня Струева, казавшаяся восьмилетним ребенком благодаря своему крошечному росту, успела принести стул, вскочить на него позади Магдалины Осиповны и, обняв ее шею руками, осыпала непрерывными поцелуями черную, гладко причесанную голову классной наставницы. Кто-то схватил одну косу общей любимицы и тянул ее к себе, стараясь достать до нее губами. Другой косой завладела Шура Августова и нежно проводила концом ее по своему разгоревшемуся лицу.
– Милые мои девочки… славные мои… малютки мои… Ну как я вас оставлю… как покину вас? Ия Аркадьевна, будьте к ним добры, вы видите, что за чуткие, что за драгоценные сердца у этих детей, – обращаясь к своей заместительнице, едва найдя в себе силы, произнесла Вершинина и вдруг сильно и продолжительно закашлялась от подступивших к ее горлу рыданий.
Теперь, задыхавшаяся в остром пароксизме[12 - Парокси?зм – сильный приступ, припадок (болезни, чувства).] волнения, Магдалина Осиповна вся дрожала, как лист. Ее ноги подкашивались, плечи вздрагивали. А кругом нее теснились плачущие девочки, еще больше усиливавшие ее волнение своими слезами.
Ия была единственным спокойным человеком среди этой так элегически настроенной толпы. И как всегда трезвая и здоровая по натуре, враг сентиментальностей и всяких бесполезных волнений, она, возвысив голос, обратилась к окружающим ее воспитанницам:
– Ну, дети, довольно! Вы видите, как ваши слезы вредно действуют на вашу наставницу, как нервируют ее… Перестаньте же плакать. Магдалине Осиповне и так нелегко расставаться с вами. Не надо же усугублять ее горе. Иногда приходится сдерживать себя, стараться не показывать своего волнения, когда это наносит вред другому. Магдалина Осиповна, голубушка, вам нехорошо? Разрешите напоить вас водой. Может быть, вы пройдете отдохнуть немного? Я вас отведу.
И, энергично взяв под руку Вершинину, Ия вывела ее из кружка толпившихся воспитанниц и повела в коридор.
Лишь только обе девушки скрылись за дверью, слезы пансионерок прекратились сами собой… Мало-помалу затихли всхлипывания, попрятались платки, исчезая в карманах коричневых форменных платьев. Но потребность вылить так или иначе накопившуюся боль и горечь еще не миновала у девочек.
– Вот так штучка, нечего сказать! – первой приходя в себя, произнесла недовольным голосом Маня Струева. – Чуткости ни на волос, то есть ни-ни… Мы плачем по Магдалиночке нашей, а она нотации, видите ли, читает.
– Идол бесчувственный! – всхлипывая, выпалила башкирка.
– Из молодых да ранняя! – вставила Шура Августова.
– Да неужели же ей, mesdames, только семнадцать лет? – прозвучал чей-то удивленный голос.
– А вы заметили, какие у нее губы? Злые, тонкие, и улыбается она как-то странно.
– А все-таки она прехорошенькая… Этого отнять нельзя.
– Ну вот еще! Ничего хорошего нет абсолютно.
– Волосы ничего себе еще. А глаза как у змеи, так и жалят насквозь.
– Ведьма она! Ненавижу таких. Воображаю, как нам «легко» будет с ней после ангела нашего Магдалины Осиповны!
– Mesdames, слушайте: в память Магдалиночки все мы обязаны игнорировать эту противную, холодную Басланову. Совершенно не сближаться с ней. И первая, кто будет нежничать с ней, – изменит нашей бедной дорогой Магдалиночке… – пылко заключила Шура.
– Августова, ступай сюда к Зюнгейке. Зюнгейка хочет целовать тебя за такие слова, – и непосредственная, порывистая башкирка бросилась на шею Шуре.
– Итак, mesdames, помните, первая из нас, пожелавшая войти в дружеские отношения с этой черствой, сухой Баслановой, становится врагом класса. Все ли поняли меня? – и Маня Струева энергично тряхнула своей всегда растрепанной головкой.
– А я, представь себе, Струева, не поняла тебя, ни тебя, ни твоих единомышленников, – произнесла высокая, худая девушка в очках, казавшаяся много старше ее четырнадцатилетнего возраста, Надя Копорьева, дочь инспектора классов частного пансиона Кубанской, – представьте, не могу и не хочу вас понять. Чем заслужила такое отношение с вашей стороны эта классная дама?
– Копорьева, что с тобой? Как ты можешь идти одна против класса? Ведь это измена Магдалиночке! Заступаясь за эту противную Басланову, ты доказываешь только то, что никогда не любила и не любишь нашего ангела Вершинину, – послышались протестующие голоса.
– Ничего подобного это не доказывает, mesdames, – спокойно проговорила Надя, и ее карие близорукие глаза блеснули под стеклами очков. – Нельзя обвинять человека, строя свои обвинения на одной внешности обвиняемой.
– Обвинения, обвиняемая, Философия Ивановна и всякие мудрые разглагольствования, – закричала со смехом Маня, – как ты можешь пускаться в такие скучные рассуждения, Копорьева? И откуда это берется у тебя, профессорша ты и ораторша хоть куда!
– А по-моему, Копорьева совершенно права, и вы все поступаете довольно-таки неостроумно тем, что, не узнав хорошенько человека, сразу объявляете ему войну.
И очень бледная, болезненного вида девочка с короткой косичкой и нервным лицом, на котором выделялись своим упорным и совершенно недетским взглядом светлые выпуклые глаза, выступила вперед. Это была племянница одного известного государственного деятеля и сановника, девочка, непрерывно менявшая учебные заведения столицы, так как она не была в состоянии удержаться подолгу ни в одном из них.
Ева Ларская, ленивая и беспечная по натуре, избалованная до последней степени благодаря своей болезненности, а главное – высокому положению своего дяди, была и здесь, в пансионе Кубанской, на исключительном счету.
Она из свойственного ее натуре упрямства всегда старалась быть не солидарной со своими товарками и оставалась при «особом мнении», как о ней говорили, во всех предприятиях и затеях. Взбалмошная и экстравагантная, кумир семьи, сделавшей ее таковой, Ева любила оригинальность, любила слыть особенной, тем более что и в пансионе с ней носились не менее, чем дома. Она была любимицей дяди-сановника, игравшего большую роль среди женских гимназий, и многое, что не простилось бы другой воспитаннице, прощалось начальством Еве Ларской.
В классе она не дружила ни с кем. Надменная, гордая девочка считала других воспитанниц ниже себя по положению. И воспитанницы в свою очередь недолюбливали Еву. Ее прозвали в насмешку «сановницей». Но эта кличка не обижала, по-видимому, девочку, напротив, она принимала ее как должную дань.
Ей нравилась одна только Маня Струева, веселая, жизнерадостная, остроумная тринадцатилетняя девочка, казавшаяся малюткой благодаря своему крошечному росту.
Впрочем, Маню, добрую и веселую проказницу, любил весь пансион. Ее шалости были так же невинны, как были невинны ее светлые голубые глазки.
Сейчас она выбежала вперед, очутилась в центре кружка своих подруг-одноклассниц и быстро-быстро заговорила:
– Конечно, Ева по-своему права… и Надя Копорьева тоже… Нельзя презирать Басланову за то только, что у нее строгие глаза, холодное лицо и что она является заместительницей Магдалиночки. Ведь Магдалина Осиповна все равно должна была бы уйти от нас… И нам дали бы другую классную даму… Но… но… вы видели, как смотрела на нас эта строгая девица? Каким великолепным взглядом высокомерного презрения окидывала она всех нас, пока мы ревели тут все, как белуги, оплакивая нашего кроткого ангела? И этого взгляда я ей не прощу во веки веков. Аминь! – заключила Маня, потрясая для чего-то своими крошечными кулачками.
– И я!
– И я также!
– И я! Все мы! Все мы! – послышались отовсюду взволнованные громкие голоса.
– Не говорите за всех, дети мои! – произнесли бледные бескровные губки Евы. – Я, например, не только не собираюсь не прощать чего бы то ни было m-lle Баслановой, но напротив того, хочу быть ее покровительницей и защитницей. И ты, Надя, надеюсь, тоже?
– Да, да, – подтвердила высокая девочка в очках.
– Профессорша и сановница заключили трогательный alliance[13 - Альянс, союз (франц.).], – смеясь, звонко выкрикивала маленькая Струева. – Vive la[14 - Да здравствует (франц.).] наука! Vive la аристократия! Мира, как это будет по-французски, – переведи!
– Оставьте меня в покое, или вы не знаете, что я всегда держу нейтралитет, – отвечала спокойная симпатичная брюнетка Мира Мордвинова.
– Mesdames, батюшка идет! По местам! – кричала, надрываясь, дежурная Таня Глухова. И почти в тот же миг на пороге класса появился молодой белокурый священник с лицом аскета, в лиловой рясе и с академическим значком на груди.
Вместе с ним в отделение четвертого класса вошла Ия. Девушка успела успокоить Магдалину Осиповну, уложить ее в постель и теперь, вернувшись в класс, заняла предназначенное ей место классной дамы за маленьким столиком у окна.
Пока отец Евгений вызывал пансионерок, прослушивал их ответы и объяснял заданное к следующему уроку Закона Божия, Ия могла, хотя бы с внешней стороны, познакомиться со своими будущими воспитанницами.
Ее зоркие, проницательные глаза самым подробным образом изучали сидевших за партами девочек.
Их было двадцать человек. И все эти двадцать, за малым разве исключением, отвечали новой наставнице довольно недоброжелательными взглядами. В глазах некоторых воспитанниц Ия прочла как будто даже какую-то затаенную угрозу. У иных – насмешку. Некоторые из пансионерок смотрели на нее с откровенным вызовом. Другие с любопытством. Но Ия не смутилась. По крайней мере, ничем не выдала своего смущения. Только темные брови ее нахмурились, а серые «строгие», как их называли пансионерки, глаза, встретив чей-нибудь чересчур откровенно неприязненный взгляд, становились еще строже.
Легкий, чуть заметный вздох вылетел из груди девушки. «Да, нелегко мне здесь будет, – подумала Ия, – слишком очевидно влияние на детей этой мягкой, избаловавшей их бедняжки Вершининой. Придется много потратить энергии и сил, прежде чем удастся исправить то, что посеяла эта невольно навредившая им Магдалина Осиповна, совсем не подходящая к роли воспитательницы и классной дамы».
Так думала Ия, продолжая незаметно наблюдать за своей маленькой паствой.
Первые же шаги ее здесь, в пансионе, не обошлись без инцидента. Отец Евгений объяснял воспитанницам таинство крещения, заданное к следующему уроку. Пансионерки слушали. Но далеко не все слушали с одинаковым вниманием. Шура Августова, вынув из ящика пюпитра узкую полоску канвы, самым спокойным образом вышивала по ней крестиками какие-то замысловатые узоры.
Ия бесшумно поднялась со своего места и приблизилась к Шуре.
Магдалина Осиповна совсем растерялась. Сильные руки Зюнгейки обнимали ее дрожащие колени так крепко, что молодая девушка, колеблемая этим энергичным объятием, едва могла устоять на ногах.
Маленькая Маня Струева, казавшаяся восьмилетним ребенком благодаря своему крошечному росту, успела принести стул, вскочить на него позади Магдалины Осиповны и, обняв ее шею руками, осыпала непрерывными поцелуями черную, гладко причесанную голову классной наставницы. Кто-то схватил одну косу общей любимицы и тянул ее к себе, стараясь достать до нее губами. Другой косой завладела Шура Августова и нежно проводила концом ее по своему разгоревшемуся лицу.
– Милые мои девочки… славные мои… малютки мои… Ну как я вас оставлю… как покину вас? Ия Аркадьевна, будьте к ним добры, вы видите, что за чуткие, что за драгоценные сердца у этих детей, – обращаясь к своей заместительнице, едва найдя в себе силы, произнесла Вершинина и вдруг сильно и продолжительно закашлялась от подступивших к ее горлу рыданий.
Теперь, задыхавшаяся в остром пароксизме[12 - Парокси?зм – сильный приступ, припадок (болезни, чувства).] волнения, Магдалина Осиповна вся дрожала, как лист. Ее ноги подкашивались, плечи вздрагивали. А кругом нее теснились плачущие девочки, еще больше усиливавшие ее волнение своими слезами.
Ия была единственным спокойным человеком среди этой так элегически настроенной толпы. И как всегда трезвая и здоровая по натуре, враг сентиментальностей и всяких бесполезных волнений, она, возвысив голос, обратилась к окружающим ее воспитанницам:
– Ну, дети, довольно! Вы видите, как ваши слезы вредно действуют на вашу наставницу, как нервируют ее… Перестаньте же плакать. Магдалине Осиповне и так нелегко расставаться с вами. Не надо же усугублять ее горе. Иногда приходится сдерживать себя, стараться не показывать своего волнения, когда это наносит вред другому. Магдалина Осиповна, голубушка, вам нехорошо? Разрешите напоить вас водой. Может быть, вы пройдете отдохнуть немного? Я вас отведу.
И, энергично взяв под руку Вершинину, Ия вывела ее из кружка толпившихся воспитанниц и повела в коридор.
Лишь только обе девушки скрылись за дверью, слезы пансионерок прекратились сами собой… Мало-помалу затихли всхлипывания, попрятались платки, исчезая в карманах коричневых форменных платьев. Но потребность вылить так или иначе накопившуюся боль и горечь еще не миновала у девочек.
– Вот так штучка, нечего сказать! – первой приходя в себя, произнесла недовольным голосом Маня Струева. – Чуткости ни на волос, то есть ни-ни… Мы плачем по Магдалиночке нашей, а она нотации, видите ли, читает.
– Идол бесчувственный! – всхлипывая, выпалила башкирка.
– Из молодых да ранняя! – вставила Шура Августова.
– Да неужели же ей, mesdames, только семнадцать лет? – прозвучал чей-то удивленный голос.
– А вы заметили, какие у нее губы? Злые, тонкие, и улыбается она как-то странно.
– А все-таки она прехорошенькая… Этого отнять нельзя.
– Ну вот еще! Ничего хорошего нет абсолютно.
– Волосы ничего себе еще. А глаза как у змеи, так и жалят насквозь.
– Ведьма она! Ненавижу таких. Воображаю, как нам «легко» будет с ней после ангела нашего Магдалины Осиповны!
– Mesdames, слушайте: в память Магдалиночки все мы обязаны игнорировать эту противную, холодную Басланову. Совершенно не сближаться с ней. И первая, кто будет нежничать с ней, – изменит нашей бедной дорогой Магдалиночке… – пылко заключила Шура.
– Августова, ступай сюда к Зюнгейке. Зюнгейка хочет целовать тебя за такие слова, – и непосредственная, порывистая башкирка бросилась на шею Шуре.
– Итак, mesdames, помните, первая из нас, пожелавшая войти в дружеские отношения с этой черствой, сухой Баслановой, становится врагом класса. Все ли поняли меня? – и Маня Струева энергично тряхнула своей всегда растрепанной головкой.
– А я, представь себе, Струева, не поняла тебя, ни тебя, ни твоих единомышленников, – произнесла высокая, худая девушка в очках, казавшаяся много старше ее четырнадцатилетнего возраста, Надя Копорьева, дочь инспектора классов частного пансиона Кубанской, – представьте, не могу и не хочу вас понять. Чем заслужила такое отношение с вашей стороны эта классная дама?
– Копорьева, что с тобой? Как ты можешь идти одна против класса? Ведь это измена Магдалиночке! Заступаясь за эту противную Басланову, ты доказываешь только то, что никогда не любила и не любишь нашего ангела Вершинину, – послышались протестующие голоса.
– Ничего подобного это не доказывает, mesdames, – спокойно проговорила Надя, и ее карие близорукие глаза блеснули под стеклами очков. – Нельзя обвинять человека, строя свои обвинения на одной внешности обвиняемой.
– Обвинения, обвиняемая, Философия Ивановна и всякие мудрые разглагольствования, – закричала со смехом Маня, – как ты можешь пускаться в такие скучные рассуждения, Копорьева? И откуда это берется у тебя, профессорша ты и ораторша хоть куда!
– А по-моему, Копорьева совершенно права, и вы все поступаете довольно-таки неостроумно тем, что, не узнав хорошенько человека, сразу объявляете ему войну.
И очень бледная, болезненного вида девочка с короткой косичкой и нервным лицом, на котором выделялись своим упорным и совершенно недетским взглядом светлые выпуклые глаза, выступила вперед. Это была племянница одного известного государственного деятеля и сановника, девочка, непрерывно менявшая учебные заведения столицы, так как она не была в состоянии удержаться подолгу ни в одном из них.
Ева Ларская, ленивая и беспечная по натуре, избалованная до последней степени благодаря своей болезненности, а главное – высокому положению своего дяди, была и здесь, в пансионе Кубанской, на исключительном счету.
Она из свойственного ее натуре упрямства всегда старалась быть не солидарной со своими товарками и оставалась при «особом мнении», как о ней говорили, во всех предприятиях и затеях. Взбалмошная и экстравагантная, кумир семьи, сделавшей ее таковой, Ева любила оригинальность, любила слыть особенной, тем более что и в пансионе с ней носились не менее, чем дома. Она была любимицей дяди-сановника, игравшего большую роль среди женских гимназий, и многое, что не простилось бы другой воспитаннице, прощалось начальством Еве Ларской.
В классе она не дружила ни с кем. Надменная, гордая девочка считала других воспитанниц ниже себя по положению. И воспитанницы в свою очередь недолюбливали Еву. Ее прозвали в насмешку «сановницей». Но эта кличка не обижала, по-видимому, девочку, напротив, она принимала ее как должную дань.
Ей нравилась одна только Маня Струева, веселая, жизнерадостная, остроумная тринадцатилетняя девочка, казавшаяся малюткой благодаря своему крошечному росту.
Впрочем, Маню, добрую и веселую проказницу, любил весь пансион. Ее шалости были так же невинны, как были невинны ее светлые голубые глазки.
Сейчас она выбежала вперед, очутилась в центре кружка своих подруг-одноклассниц и быстро-быстро заговорила:
– Конечно, Ева по-своему права… и Надя Копорьева тоже… Нельзя презирать Басланову за то только, что у нее строгие глаза, холодное лицо и что она является заместительницей Магдалиночки. Ведь Магдалина Осиповна все равно должна была бы уйти от нас… И нам дали бы другую классную даму… Но… но… вы видели, как смотрела на нас эта строгая девица? Каким великолепным взглядом высокомерного презрения окидывала она всех нас, пока мы ревели тут все, как белуги, оплакивая нашего кроткого ангела? И этого взгляда я ей не прощу во веки веков. Аминь! – заключила Маня, потрясая для чего-то своими крошечными кулачками.
– И я!
– И я также!
– И я! Все мы! Все мы! – послышались отовсюду взволнованные громкие голоса.
– Не говорите за всех, дети мои! – произнесли бледные бескровные губки Евы. – Я, например, не только не собираюсь не прощать чего бы то ни было m-lle Баслановой, но напротив того, хочу быть ее покровительницей и защитницей. И ты, Надя, надеюсь, тоже?
– Да, да, – подтвердила высокая девочка в очках.
– Профессорша и сановница заключили трогательный alliance[13 - Альянс, союз (франц.).], – смеясь, звонко выкрикивала маленькая Струева. – Vive la[14 - Да здравствует (франц.).] наука! Vive la аристократия! Мира, как это будет по-французски, – переведи!
– Оставьте меня в покое, или вы не знаете, что я всегда держу нейтралитет, – отвечала спокойная симпатичная брюнетка Мира Мордвинова.
– Mesdames, батюшка идет! По местам! – кричала, надрываясь, дежурная Таня Глухова. И почти в тот же миг на пороге класса появился молодой белокурый священник с лицом аскета, в лиловой рясе и с академическим значком на груди.
Вместе с ним в отделение четвертого класса вошла Ия. Девушка успела успокоить Магдалину Осиповну, уложить ее в постель и теперь, вернувшись в класс, заняла предназначенное ей место классной дамы за маленьким столиком у окна.
Пока отец Евгений вызывал пансионерок, прослушивал их ответы и объяснял заданное к следующему уроку Закона Божия, Ия могла, хотя бы с внешней стороны, познакомиться со своими будущими воспитанницами.
Ее зоркие, проницательные глаза самым подробным образом изучали сидевших за партами девочек.
Их было двадцать человек. И все эти двадцать, за малым разве исключением, отвечали новой наставнице довольно недоброжелательными взглядами. В глазах некоторых воспитанниц Ия прочла как будто даже какую-то затаенную угрозу. У иных – насмешку. Некоторые из пансионерок смотрели на нее с откровенным вызовом. Другие с любопытством. Но Ия не смутилась. По крайней мере, ничем не выдала своего смущения. Только темные брови ее нахмурились, а серые «строгие», как их называли пансионерки, глаза, встретив чей-нибудь чересчур откровенно неприязненный взгляд, становились еще строже.
Легкий, чуть заметный вздох вылетел из груди девушки. «Да, нелегко мне здесь будет, – подумала Ия, – слишком очевидно влияние на детей этой мягкой, избаловавшей их бедняжки Вершининой. Придется много потратить энергии и сил, прежде чем удастся исправить то, что посеяла эта невольно навредившая им Магдалина Осиповна, совсем не подходящая к роли воспитательницы и классной дамы».
Так думала Ия, продолжая незаметно наблюдать за своей маленькой паствой.
Первые же шаги ее здесь, в пансионе, не обошлись без инцидента. Отец Евгений объяснял воспитанницам таинство крещения, заданное к следующему уроку. Пансионерки слушали. Но далеко не все слушали с одинаковым вниманием. Шура Августова, вынув из ящика пюпитра узкую полоску канвы, самым спокойным образом вышивала по ней крестиками какие-то замысловатые узоры.
Ия бесшумно поднялась со своего места и приблизилась к Шуре.