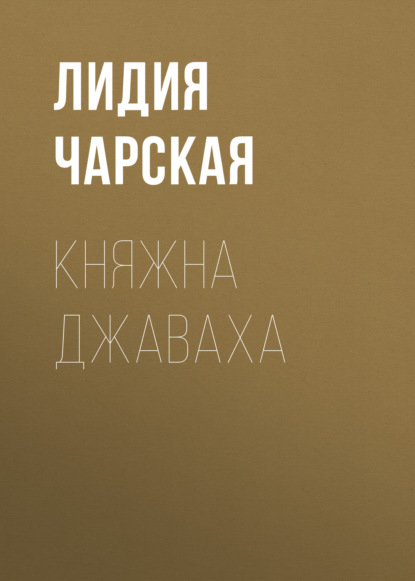По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Княжна Джаваха
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наконец отец вышел из своей комнаты. Он был бледен и худ, так худ, что военный длиннополый бешмет висел на нём, как на вешалке.
Увидя меня, с печальным лицом бродившую по чинаровой аллее, он подозвал меня к себе, прижал к груди и шепнул тихо, тихо:
– Нина, чеми патара сакварело![11 - Чеми патара сакварело – Моя возлюбленная малютка по-грузински.]
Голос у него был полон слёз, как у покойной деды, когда она пела свои печальные горные песни.
– Сакварело, – прошептал ещё раз отец и покрыл моё лицо поцелуями. В тяжёлые минуты он всегда говорил по-грузински, хотя всю свою жизнь находился между русскими.
– Папа, милый, бесценный папа! – ответила я ему и в первый раз со дня кончины мамы тяжело и горько разрыдалась.
Отец поднял меня на руки и, прижимая к сердцу, говорил мне такие ласковые, такие нежные слова, которыми умеет только дарить чудесный, природой избалованный Восток!
А кругом нас шелестели чинары, и соловей начинал свою песню в каштановой роще за горийским кладбищем.
Я ласкалась к отцу, и сердце моё уже не разрывалось тоскою по покойной маме, – оно было полно тихой грусти… Я плакала, но уже не острыми и больными слезами, а какими-то тоскливыми и сладкими, облегчающими мою наболевшую детскую душу…
Потом отец кликнул Михако и велел седлать своего Шалого. Я боялась поверить своему счастью: моя заветная мечта побывать с отцом в горах осуществлялась.
Это была чудная ночь!
Мы ехали с ним, тесно прижавшись друг к другу, в одном седле на спине самой быстрой и нервной лошади в Гори, понимавшей своего господина по одному слабому движению повода…
Вдали высокими синими силуэтами виднелись мохнатые горы, внизу бежала засыпающая Кура… Из дальних ущелий поднималась седая дымка тумана, и точно вся природа курила нежный фимиам подкрадывавшейся ночи.
– Отец! Как хорошо всё это! – воскликнула я, заглядывая ему в глаза.
– Хорошо, – тихим, точно чужим, голосом ответил он.
И, вглядевшись пристальнее в его чёрные, ярко горящие зрачки, я заметила в них две крупные слезы. Должно быть, он вспомнил деду.
– Папа, – тихо произнесла я, как бы боясь нарушить чарующее впечатление ночи, – мы часто будем так ездить с тобою?
– Часто, голубка, часто, моя крошка, – поторопился он ответить и отвернулся от меня, чтобы смахнуть непрошеные слёзы.
В первый раз со дня кончины мамы я почувствовала себя снова счастливой. Мы ехали по тропинке, между рядами невысоких гор, в тихой долине Куры… А по берегам реки вырастали по временам в сгущающихся сумерках развалины замков и башен, носивших в себе печать давних и грозных времён.
Но ничего страшного не было теперь в этих полуразрушенных бойницах, откуда давно-давно высовывались медные тела огнедышащих орудий. Глядя на них, я слушала рассказ отца о печальных временах, когда Грузия стонала под игом турок и персов… Что-то билось и клокотало в моей груди… Мне хотелось подвигов – таких подвигов, от которых ахнули бы самые смелые джигиты[12 - Джигиты – рыцари-горцы.] Закавказья…
Мы только к рассвету вернулись домой… Восходящее солнце заливало бледным пурпуром отдалённые высоты, и они купались в этом розовом море самых нежнейших оттенков. С соседней крыши минарета[13 - Минарет – башенка на мусульманской мечети.] мулла кричал свою утреннюю молитву… Полусонную снял меня с седла Михако и отнёс к Барбале – старой грузинке, жившей в доме отца уже много лет.
Этой ночи я никогда не забуду… После неё я ещё горячее привязалась к моему отцу, которого до сих пор немного чуждалась…
Теперь я ежедневно стерегла его возвращение из станицы, где стоял его полк. Он слезал с Шалого и сажал меня в седло… Сначала шагом, потом всё быстрее и быстрее шла подо мною лошадь, изредка потряхивая гривой и поворачивая голову назад, как бы спрашивая шедшего за нами отца, как ей вести себя с крошечной всадницей, вцепившейся ей в гриву.
Но какова была моя радость, когда однажды я получила Шалого в моё постоянное владение! Я едва верила моему счастью… Я целовала умную морду лошади, смотрела в её карие выразительные глаза, называла самыми ласковыми именами, на которые так щедра моя поэтичная родина…
И Шалый, казалось, понимал меня… Он скалил зубы, как бы улыбаясь, и тихо, ласково ржал.
С получением от отца этого неоценимого подарка для меня началась новая жизнь, полная своеобразной прелести.
Каждое утро я совершала небольшие прогулки в окрестностях Гори то горными тропинками, то низменным берегом Куры… Часто я проезжала городским базаром, гордо восседая на коне, в моём алом атласном бешмете, в белой папахе, лихо заломленной на затылок, похожая скорее на маленького джигита, нежели на княжну славного аристократического рода.
И торгаши армяне, и хорошенькие грузинки, и маленькие татарчата – все смотрели на меня, разиня рот, удивляясь моему бесстрашию.
Многие из них знали моего отца.
– Здравствуй, княжна Нина Джаваха, – кивали мне они головами и хвалили, к моему огромному удовольствию, и коня, и всадницу.
Но горные тропинки и зелёные долины манили меня куда больше пыльных городских улиц.
Там я была сама себе госпожа. Выпустив поводья и вцепившись в чёрную гриву моего вороного, я изредка покрикивала: «Айда, Шалый, айда![14 - Айда? – вперёд на языке горцев.]» – и он нёсся как вихрь, не обращая внимания на препятствия, встречающиеся на дороге. Он скакал тем бешеным галопом, от которого захватывает дух и сердце бьётся в груди, как подстреленная птичка.
В такие минуты я воображала себя могущественной представительницей амазонок, и мне казалось, что за мною гонятся целые полчища неприятелей.
– Айда! Айда! – понукала я моего лихого коня, и он ускорял шаг, пугая мирно бродивших по улицам предместий поросят и барашков.
– Дели-акыз![15 - Дели-акы?з – сумасшедшая девчонка по-татарски.] – кричали маленькие татарчата, разбегаясь в стороны, как стадо козлят, при моём приближении к их аулу.
– Шайтан девчонка![16 - Шайта?н – дьявол по-татарски.] – твердили старухи, сердито грозя мне высохшими пальцами и недружелюбно поглядывая на меня из-под седых бровей.
И любо мне было дразнить старух, пугать ребят и нестись вперёд и вперёд по бесконечной долине между полями, усеянными спелой кукурузой, навстречу тёплому горному ветерку и синему небу, манящему к себе своей неизъяснимой прелестью.
Как-то раз, возвращаясь с одной из таких прогулок с тяжёлой виноградной лозой в руках, срезанной мною на ходу во время скачки при помощи маленького детского кинжала, подаренного мне отцом, я была поражена необычайным зрелищем.
На нашем дворе стояла коляска, запряжённая парою чудесных белых лошадей, а сзади неё крытая арба[17 - Арба? – местный грузинский экипаж (телега).] с сундуками, узлами и чемоданами. У арбы прохаживался старый седой горец с огромными усами и помогал какой-то женщине, тоже старой и сморщенной, снимать узлы и втаскивать их на крыльцо нашего дома.
– Михако, – звонко крикнула я, – что это за люди?
Седой горец и сморщенная старушка посмотрели на меня с чуть заметным насмешливым удивлением.
Потом женщина подошла ко мне и, прикрываясь слегка чадрой[18 - Чадра? – покрывало, женский убор на Востоке.] от солнца, сказала по-грузински:
– Будь здорова в твоём доме, маленькая княжна.
– Спасибо. Будь гостьей, – ответила я по грузинскому обычаю и перенесла удивлённый взгляд на седого горца, лошадей и коляску.
Заметив моё изумление, незнакомая женщина сказала:
– Эти лошади и это имущество – всё принадлежит вашей бабушке, княгине Елене Борисовне Джаваха-оглы-Джамата, а мы её слуги.
– А где же она, бабушка? – вырвалось у меня скорее удивлённо, нежели радостно.
– Княгиня там. – И женщина указала по направлению дома.
Соскочить с Шалого, бросить поводья подоспевшему Михако и ураганом ворваться в комнату, где сидел мой отец в обществе высокой и величественной старухи с седою, точно серебряною головою и орлиным взором, – было делом одной минуты.
При моём появлении высокая женщина встала с тахты и смерила меня всю долгим и проницательным взглядом. Потом она обратилась к моему отцу с вопросом: