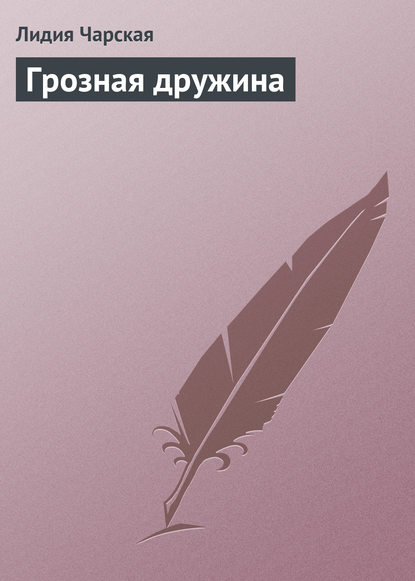По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грозная дружина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ладно, хозяин, и улусы к ясаку приведем, да и самого Бегбелия на аркане тебе притащим… Небось, хитрости тут нет никакой. Видал, небось, как от нас югра лататы задавала… И с Бегбелкой ихним тож справимся! – засмеялся Ермак.
– И то, правда твоя, Василь Тимофеич, – согласился Строганов. Молодцы вы, што и говорить. По гроб жизни буду тебя благодарить с твоей ратью… Небось, и на самого Кучумку не побоятся пойти они…
– И на Кучумку пойдут, дай срок, пущай тольки покажется к нам сюда хан Казацкий (кайсацкий), царевич Махмет-Кул, што ли, – мы его разуважим.
Верно ль говорю я? – блеснув взорами произнес Ермак.
– Верно! Верно! Правда твоя, атаман-батька! – отозвались голоса сидевших за столом есаулов.
– Верно! – помимо воли вырвалось звонким тенором и из груди Алеши.
Этот звонкий детский голос заставил обернуться Ермака в сторону мальчика.
Быстрым ястребиным взором окинул атаман Алешу.
В своем голубом, шитом золотом кафтане, подарке Мещеряка, юный князек был чудо хорош собой. Его синие глаза так и искрились, восхищенным взором впиваясь в лицо атамана. Острый взгляд последнего в свою очередь так и вонзился в него. Казалось, этот взгляд проник в самую душу Алеши. А он, словно зачарованный, не сводил глаз с Ермака.
Пытливые глаза казачьего батьки-атамана вдруг неожиданно смягчились, засияли лаской.
– Подрастает соколенок… Крылья никак чует… Слышь, Мещеря, отдай мне парнишку твоего… Я его лихим казаком сделаю. Хошь ко мне, князенька, а? – ласково кинул Алеше Ермак.
Что-то, словно птица, затрепетало в груди мальчика. Какая-то жгучая радость после стольких печалей и мук вошла ему в сердце. Еще неудержимее потянуло его к этому мощному человеку, распоряжавшемуся столькими жизнями людей.
– Хочу! – хотелось без удержу крикнуть в голос Алеше. Он уже открыл было рот и… неожиданно встретил на себе затуманенные очи Мещеряка.
– А как же я, князенька? Аль меня кинешь? – тихо шепнули губы Матвея.
– Не кину! В жизнь не кину тебя! Ты мне ровно братец любимый! – тихо, но горячо и пылко вырвалось из груди мальчика. – А только… только вот што, Матюша, – зашептал он, тут же ближе придвигаясь к своему другу. Что, ежели попросить нам атамана к себе обоих нас взять? – весь вспыхнув, как маков цвет, заключил княжич Алеша.
– Ладно, князек! Возьму к себе обоих! Оба у меня вроде как бы оружничьими будете… Согласны? Што ль? – ласково обдавая своим искрометным взором Мещеряка и Алешу, спросил Ермак.
– Согласны! Вестимо, согласны! – отвечал за обоих Матвей, в то время, как юный князек только сверкнул радостно заблестевшими глазенками.
– Слушай, паря, – уже серьезно проговорил Ермак, снова обратившись к Алеше, – тебе на пиру с нами молодцами бражничать как быдто не пристало.
Млад ты годами для того, и от медов сыченых, не токмо што от фряжских вин, голова у тебя кругом пойдет. Видал я в оконце, как на лужайке девки красные молодую хозяйку веселят. Може дозволит тебе Семен Аникич в горелки с ими побегать да хороводы поводить? А? Дозволишь што ль, хозяин-светушка? – обратившись к Строганову, попросил Ермак.
– Пущай идет. Ему, дитяти, куды веселее побегать, нежели с нами в душной горнице пировать, – ласково произнес тот, погладив кудрявую голову Алеши. – Ступай, паренек!.. Очи, што звезды! Взор чистый, правдивый…
Дорого бы я дал, штоб рану его сердешную залечить… Дорого бы дал, штобы не случилось того, отчего осиротел в конец мальчонок этот, – задумчиво произнес Ермак, глядя в след Алеше, пока статная, красивая фигурка мальчика не скрылась за дверью. – Не терплю я боярского отродья, ни высоких бар, а этот князек-сиротинка, помимо воли, так в душу и лезет со своим ясным лицом пригожим да с очами синими, смелыми, – добавил он тихо и тотчас же, обратившись ко всем пирующим, весело крикнул:
– А ну-ка, ребятушки, споем молодецкую! Потешим хозяев тароватых за угощение обильное! Нашу любимую споем, молодцы. Мещеря у нас запевалой по обычности будет… Зачинай соловьем, друже, а мы подхватим тебе.
Услышав последние слова атамана выпрямился Матвей, тряхнул кудрями, молодецки расправил грудь и, обведя круг пирующих загоревшимся взором, начал низким и сильным баритоном всем пирующим хорошо знакомую песню:
Атаман говорил донским казакам,
По имени Ермак Тимофеевич:
А вы, гой еси, братцы, атаманы казачие
Не корыстна у нас шутка зашучена
И как нам за то будет ответствовать?
В Астрахани – жить нельзя,
На Волге жить – ворами слыть,
На Яик идти – переход велик,
В Казань идти – Грозен царь стоит,
Грозный царь, государь Иван Васильевич;
В Москву идти – перехватанным быть,
По разным городам разосланным,
По темным тюрьмам рассаженным,
Пойдемте мы в жилья к Строгановым,
К тому Семену свету Аникиевичу…
Хорошо запевал Мещеря, хорошо пели казаки, подхватившие из соседних горниц знакомый припев.
В такт песни звенели серебряные чарки и кубки, наполненные искрометным вином.
Строгановы, дядя и племянники, низко кланялись, благодаря за песню.
Пир с каждой минутой делался все шумней и шумней…
* * *
– Ишь, распелись!.. Гляди, до утра протянется пирное столованье! Я уж дважды туда сбегала. Из оконца хорошо видать-то и всех разбойников, и атамана ихнего… – так говорила веселая Агаша, попрыгунья и затейница, рассказывая сгруппировавшимся вокруг качелей девушкам как хорошо разглядела она пировавшую вольницу. – А у самого-то, у атамана, значит, – захлебываясь и воодушевляясь говорила шалунья, – глаза, што твои уголья, так пламя и мечут, так и мечут…
– Ой, страшно, девоньки! Небось, не единожды руку в человеческой крови омыл! – трусливо сжимаясь прошептала Домаша.
– Тссс! Нишкни, глупая! – прикрикнула на нее Танюша, – нешто можно о том говорить! Коли услышит дядя – беда! Гляди-тка, с честью какою крестненький его принимает!.. Ровно боярина-князя, ни дать, ни взять царского посла.
– А все ж крови на ем много! – заметила Машенька, и глаза ее пугливо покосились в сторону хором, откуда неслись песни и крики.
– Крови? А на ком ее нет? – запальчиво подхватила Таня. – Вона на Москве, бают, рекой льется она… И не от руки разбойничьей, а от царевой, прости, Господи, руки. Бают люди, все боле да боле невинной там крови льется! А он, атаман этот, зря не зарезал еще никого… Бают люди, на богачей, бояр да воевод налетят они, бывало, всей ватагой и откупа спросят: коли откупятся данью, значит проезжай дале, а нет, – не погневись. Мне дядя сказывал! – оживленно заключила свою речь девушка.
– А все же разбойник он! – не согласилась Машенька.
– Эк, заладила сорока одно: разбойник да разбойник… Небось, кабы не разбойник этот, быть бы нам в полону у нехристей! – блестя глазами горячо воскликнула юная хозяйка.
– Верно твое слово, боярышня! Быть бы всем вам в югорском плену! – послышался чей-то звонкий голос из-за куста орешника, и стройная фигура Алеши Оболенского выскочила на садовую лужайку, посреди которой приютилась огромная качель.
– Ай! Чужой! – не своим голосом взвизгнули девушки и стаей испуганных птиц кинулись врассыпную.
Только две из них остались стоять на месте, как ни в чем не бывало.
То были голубоглазая хозяйка Сольвычегодска и черненькая Агаша, ее ближняя сенная девушка.
– Стойте, куды вы, глупые! Паренька ин за волка приняли! – насмешливо послала последняя им вдогонку. – Ишь, страшилище нашли! – хохотала она, неча сказать! Уж волк-то больно пригожий да ладный вышел, – острила девушка.
Действительно, в нарядном красивом мальчике не было ничего страшного.
Напротив, позлащенный прощальными лучами заходящего солнца, в своем голубом, затканном дорогим шитьем кафтане, он красиво выделялся на общем фоне зелени садовых чащ. Быстрыми шагами приблизился он к Тане и, взяв ее за руку, произнес ласково и тепло:
– И то, правда твоя, Василь Тимофеич, – согласился Строганов. Молодцы вы, што и говорить. По гроб жизни буду тебя благодарить с твоей ратью… Небось, и на самого Кучумку не побоятся пойти они…
– И на Кучумку пойдут, дай срок, пущай тольки покажется к нам сюда хан Казацкий (кайсацкий), царевич Махмет-Кул, што ли, – мы его разуважим.
Верно ль говорю я? – блеснув взорами произнес Ермак.
– Верно! Верно! Правда твоя, атаман-батька! – отозвались голоса сидевших за столом есаулов.
– Верно! – помимо воли вырвалось звонким тенором и из груди Алеши.
Этот звонкий детский голос заставил обернуться Ермака в сторону мальчика.
Быстрым ястребиным взором окинул атаман Алешу.
В своем голубом, шитом золотом кафтане, подарке Мещеряка, юный князек был чудо хорош собой. Его синие глаза так и искрились, восхищенным взором впиваясь в лицо атамана. Острый взгляд последнего в свою очередь так и вонзился в него. Казалось, этот взгляд проник в самую душу Алеши. А он, словно зачарованный, не сводил глаз с Ермака.
Пытливые глаза казачьего батьки-атамана вдруг неожиданно смягчились, засияли лаской.
– Подрастает соколенок… Крылья никак чует… Слышь, Мещеря, отдай мне парнишку твоего… Я его лихим казаком сделаю. Хошь ко мне, князенька, а? – ласково кинул Алеше Ермак.
Что-то, словно птица, затрепетало в груди мальчика. Какая-то жгучая радость после стольких печалей и мук вошла ему в сердце. Еще неудержимее потянуло его к этому мощному человеку, распоряжавшемуся столькими жизнями людей.
– Хочу! – хотелось без удержу крикнуть в голос Алеше. Он уже открыл было рот и… неожиданно встретил на себе затуманенные очи Мещеряка.
– А как же я, князенька? Аль меня кинешь? – тихо шепнули губы Матвея.
– Не кину! В жизнь не кину тебя! Ты мне ровно братец любимый! – тихо, но горячо и пылко вырвалось из груди мальчика. – А только… только вот што, Матюша, – зашептал он, тут же ближе придвигаясь к своему другу. Что, ежели попросить нам атамана к себе обоих нас взять? – весь вспыхнув, как маков цвет, заключил княжич Алеша.
– Ладно, князек! Возьму к себе обоих! Оба у меня вроде как бы оружничьими будете… Согласны? Што ль? – ласково обдавая своим искрометным взором Мещеряка и Алешу, спросил Ермак.
– Согласны! Вестимо, согласны! – отвечал за обоих Матвей, в то время, как юный князек только сверкнул радостно заблестевшими глазенками.
– Слушай, паря, – уже серьезно проговорил Ермак, снова обратившись к Алеше, – тебе на пиру с нами молодцами бражничать как быдто не пристало.
Млад ты годами для того, и от медов сыченых, не токмо што от фряжских вин, голова у тебя кругом пойдет. Видал я в оконце, как на лужайке девки красные молодую хозяйку веселят. Може дозволит тебе Семен Аникич в горелки с ими побегать да хороводы поводить? А? Дозволишь што ль, хозяин-светушка? – обратившись к Строганову, попросил Ермак.
– Пущай идет. Ему, дитяти, куды веселее побегать, нежели с нами в душной горнице пировать, – ласково произнес тот, погладив кудрявую голову Алеши. – Ступай, паренек!.. Очи, што звезды! Взор чистый, правдивый…
Дорого бы я дал, штоб рану его сердешную залечить… Дорого бы дал, штобы не случилось того, отчего осиротел в конец мальчонок этот, – задумчиво произнес Ермак, глядя в след Алеше, пока статная, красивая фигурка мальчика не скрылась за дверью. – Не терплю я боярского отродья, ни высоких бар, а этот князек-сиротинка, помимо воли, так в душу и лезет со своим ясным лицом пригожим да с очами синими, смелыми, – добавил он тихо и тотчас же, обратившись ко всем пирующим, весело крикнул:
– А ну-ка, ребятушки, споем молодецкую! Потешим хозяев тароватых за угощение обильное! Нашу любимую споем, молодцы. Мещеря у нас запевалой по обычности будет… Зачинай соловьем, друже, а мы подхватим тебе.
Услышав последние слова атамана выпрямился Матвей, тряхнул кудрями, молодецки расправил грудь и, обведя круг пирующих загоревшимся взором, начал низким и сильным баритоном всем пирующим хорошо знакомую песню:
Атаман говорил донским казакам,
По имени Ермак Тимофеевич:
А вы, гой еси, братцы, атаманы казачие
Не корыстна у нас шутка зашучена
И как нам за то будет ответствовать?
В Астрахани – жить нельзя,
На Волге жить – ворами слыть,
На Яик идти – переход велик,
В Казань идти – Грозен царь стоит,
Грозный царь, государь Иван Васильевич;
В Москву идти – перехватанным быть,
По разным городам разосланным,
По темным тюрьмам рассаженным,
Пойдемте мы в жилья к Строгановым,
К тому Семену свету Аникиевичу…
Хорошо запевал Мещеря, хорошо пели казаки, подхватившие из соседних горниц знакомый припев.
В такт песни звенели серебряные чарки и кубки, наполненные искрометным вином.
Строгановы, дядя и племянники, низко кланялись, благодаря за песню.
Пир с каждой минутой делался все шумней и шумней…
* * *
– Ишь, распелись!.. Гляди, до утра протянется пирное столованье! Я уж дважды туда сбегала. Из оконца хорошо видать-то и всех разбойников, и атамана ихнего… – так говорила веселая Агаша, попрыгунья и затейница, рассказывая сгруппировавшимся вокруг качелей девушкам как хорошо разглядела она пировавшую вольницу. – А у самого-то, у атамана, значит, – захлебываясь и воодушевляясь говорила шалунья, – глаза, што твои уголья, так пламя и мечут, так и мечут…
– Ой, страшно, девоньки! Небось, не единожды руку в человеческой крови омыл! – трусливо сжимаясь прошептала Домаша.
– Тссс! Нишкни, глупая! – прикрикнула на нее Танюша, – нешто можно о том говорить! Коли услышит дядя – беда! Гляди-тка, с честью какою крестненький его принимает!.. Ровно боярина-князя, ни дать, ни взять царского посла.
– А все ж крови на ем много! – заметила Машенька, и глаза ее пугливо покосились в сторону хором, откуда неслись песни и крики.
– Крови? А на ком ее нет? – запальчиво подхватила Таня. – Вона на Москве, бают, рекой льется она… И не от руки разбойничьей, а от царевой, прости, Господи, руки. Бают люди, все боле да боле невинной там крови льется! А он, атаман этот, зря не зарезал еще никого… Бают люди, на богачей, бояр да воевод налетят они, бывало, всей ватагой и откупа спросят: коли откупятся данью, значит проезжай дале, а нет, – не погневись. Мне дядя сказывал! – оживленно заключила свою речь девушка.
– А все же разбойник он! – не согласилась Машенька.
– Эк, заладила сорока одно: разбойник да разбойник… Небось, кабы не разбойник этот, быть бы нам в полону у нехристей! – блестя глазами горячо воскликнула юная хозяйка.
– Верно твое слово, боярышня! Быть бы всем вам в югорском плену! – послышался чей-то звонкий голос из-за куста орешника, и стройная фигура Алеши Оболенского выскочила на садовую лужайку, посреди которой приютилась огромная качель.
– Ай! Чужой! – не своим голосом взвизгнули девушки и стаей испуганных птиц кинулись врассыпную.
Только две из них остались стоять на месте, как ни в чем не бывало.
То были голубоглазая хозяйка Сольвычегодска и черненькая Агаша, ее ближняя сенная девушка.
– Стойте, куды вы, глупые! Паренька ин за волка приняли! – насмешливо послала последняя им вдогонку. – Ишь, страшилище нашли! – хохотала она, неча сказать! Уж волк-то больно пригожий да ладный вышел, – острила девушка.
Действительно, в нарядном красивом мальчике не было ничего страшного.
Напротив, позлащенный прощальными лучами заходящего солнца, в своем голубом, затканном дорогим шитьем кафтане, он красиво выделялся на общем фоне зелени садовых чащ. Быстрыми шагами приблизился он к Тане и, взяв ее за руку, произнес ласково и тепло: