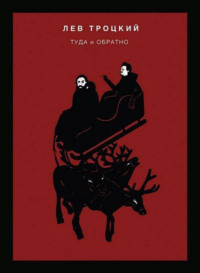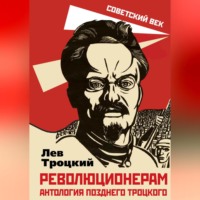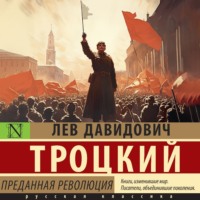История русской революции. Том II, часть 2
Думцы совсем уже было двинулись в свой последний путь, как телефонный звонок принес весть, что к ним на соединение идет весь Исполнительный комитет крестьянских депутатов. Нескончаемые аплодисменты. Теперь картина полна и ясна: представители стомиллионного крестьянства вместе с представителями всех классов городского населения пойдут погибать от руки ничтожной кучки насильников. Нет недостатка в речах и рукоплесканиях.
После подхода крестьянских депутатов колонна двинулась, наконец, по Невскому. Во главе выступали: городской голова Шрейдер и министр Прокопович. В числе учатников Джон Рид заметил эсера Авксентьева, председателя крестьянского Исполнительного комитета, и меньшевистских лидеров: Хинчука и Абрамовича, из которых первый считался правым, а второй левым. Прокопович и Шрейдер несли два фонаря: так было у словлено по телефону с министрами, дабы юнкера не приняли друзей за врагов. Прокопович, кроме того, нес зонтик, как, впрочем, и многие другие. Духовенства не было. Духовенство создала из туманных обрывков отечественной истории небогатая фантазия юнкеров. Но не было и народа. Его отсутствие определяло характер всей затеи: триста-четыреста «представителей» и никого из тех, кого они представляли. «Была темная ночь, – вспоминает эсер Зензинов, – и фонари на Невском не горели. Мы шли стройной процессией, и слышно было только наше пение марсельезы. Вдали раздавались пушечные выстрелы: это большевики продолжали обстрел Зимнего дворца».
У Екатерининского канала тянулась через Невский застава вооруженных матросов, заграждая путь колонне демократии. «Мы пойдем вперед, – заявили обреченные, – что вы можете с нами сделать?» Моряки без околичностей ответили, что применят силу: «Отправляйтесь по домам и оставьте нас в покое». Кто-то из участников процессии предложил погибнуть здесь же, на месте. Но в решении, принятом поименным голосованием в думе, подобный вариант не был предусмотрен. Министр Прокопович взобрался на какое-то возвышение и, «размахивая зонтиком» – осенью в Петрограде часты дожди, – обратился к демонстрантам с призывом не вводить в искушение этих темных и обманутых людей, которые действительно могут прибегнуть к оружию. «Вернемся в думу и обсудим средства спасения страны и революции».
Это было поистине мудрое предложение. Правда, первоначальный замысел оставался при этом невыполненным. Но что же поделать с вооруженными грубиянами, которые не позволяют вождям демократии героически умереть. «Постояли, позябли и решили вернуться», – меланхолически пишет Станкевич, тоже один из участников шествия. Уже без марсельезы, наоборот, в сосредоточенном молчании, процессия двинулась назад по Невскому к зданию думы. Там она должна была найти, наконец, «средства спасения страны и революции».
С захватом Зимнего дворца Военно-революционный комитет полностью овладел столицей. Но как у покойника продолжают расти ногти и волосы, так у низложенного правительства обнаруживались признаки жизни через официальную печать. «Вестник Временного правительства», который еще 24-го сообщал об увольнении в отставку тайных советников, с мундиром и пенсией, 25-го внезапно замолк, чего, правда, никто не заметил. Зато 26-го он появился снова, как если бы ничего не случилось. На первой странице значилось: «Вследствие прекращения электрического тока номер от 25 октября не вышел». Во всем остальном, за вычетом тока, государственная жизнь шла своим порядком, и «Вестник» правительства, находившегося в Трубецком бастионе, извещал о назначении десятка новых сенаторов. В отделе «Административных известий» циркуляр министра внутренних дел Никитина рекомендовал губернским комиссарам «не поддаваться ложным слухам о событиях в Петрограде, где все спокойно». Министр был не так уж не прав:
дни переворота прошли достаточно спокойно, если не считать канонады, которая, впрочем, ограничилась акустическим эффектом. И все же историк не ошибется, если скажет, что в день 25 октября не только прекратился ток в правительственной типографии, но и открылась важная страница в истории человечества.
ОКТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
Естественно-исторические аналогии в применении к революции настолько напрашиваются сами собою, что некоторые из них превратились в стершиеся метафоры: «вулканическое извержение», «роды нового общества», «точка кипения»… Под видом простого литературного образа здесь скрываются интуитивно схваченные законы диалектики, т. е. логики развития.
Что революция в целом – по отношению к эволюции, то вооруженное восстание – по отношению к самой революции: критический пункт, когда накопившееся количество со взрывом переходит в качество. Но и само восстание не есть однородный и нерасчленимый акт: в нем есть свои критические точки, свои внутренние кризисы и подъемы.
Чрезвычайно важным, и политически и теоретически, является короткий период, непосредственно предшествующий «точке кипения», т. е. канун восстания. Физика учит, что равномерный процесс нагревания внезапно приостанавливается, жидкость сохраняет в течение известного времени неизменную температуру, чтобы закипеть лишь после поглощения дополнительного количества теплоты. Обиходный язык приходит нам и здесь на помощь, обозначая состояние мнимо спокойной сосредоточенности перед взрывом, как «затишье перед бурей».
Когда на сторону большевиков перешло безусловное большинство рабочих и солдат Петрограда, температура кипения, казалось, была достигнута. Именно в этот момент Ленин провозгласил необходимость немедленного восстания. Но поразительно: для восстания чего-то не хватало. Рабочие и особенно солдаты должны были поглотить еще какое-то дополнительное количество революционной энергии.
У масс нет противоречия между словом и делом. Но переход от слова к делу, даже к простой стачке, тем более – к восстанию неизбежно вызывает внутренние трения и молекулярные перегруппировки: одни продвигаются вперед, другим приходится потесниться назад. На первых своих шагах гражданская война вообще отличается чрезвычайной нерешительностью. Оба лагеря как бы вязнут в одной и той же национальной почве, не могут оторваться от собственной периферии, с ее промежуточными прослойками и соглашательскими настроениями.
Затишье перед бурей в низах означало острую заминку в руководящем слое. Те органы и учреждения, которые сложились в сравнительно мирный подготовительный период, – у революции есть свои мирные периоды, как у войны – свои дни затишья, – оказываются даже в наиболее закаленной партии несоответствующими или не вполне соответствующими задачам восстания: известная передвижка и перестройка становится неизбежной в самый критический момент. Далеко не все делегаты Петроградского Совета, голосовавшие за власть советов, прониклись по-настоящему той мыслью, что вооруженное восстание стало задачей дня. Нужно было с наименьшими потрясениями перевести их на новый путь, чтобы превратить Совет в аппарат восстания. В условиях назревшего кризиса для этого не нужны были ни месяцы, ни даже многие недели. Но именно в последние дни опаснее всего было сбиться с ноги, скомандовать прыжок на несколько дней раньше, чем Совет готов был к нему, вызвать замешательство в собственных рядах, оторвать партию от Совета хотя бы на 24 часа.
Ленин не раз повторял, что массы несравненно левее партии, как партия – левее своего ЦК. Применительно к революции в целом это было совершенно верно. Но и в этих взаимоотношениях есть свои глубокие внутренние колебания. В апреле, июне, особенно в начале июля, рабочие и солдаты нетерпеливо толкали партию на путь решительных действий. После июльского разгрома массы стали осторожнее. Они по-прежнему и больше того хотели переворота. Но сильно обжегшись, опасались новой неудачи. В течение июля, августа и сентября партия изо дня в день сдерживала рабочих и солдат, которых корниловцы, наоборот, всеми способами вызывали на улицу. Политический опыт последних месяцев сильно развил задерживающие центры не только у руководителей, но и у руководимых. Непрерывные успехи агитации питали, в свою очередь, инерцию выжидательных настроений. Массам мало было новой политической ориентировки: им нужно было перестроиться психологически. Восстание охватит тем более широкие массы, чем больше команда революционной партии сольется с командой обстоятельств.
Трудный вопрос перехода от политики подготовки к технике восстания вставал во всей стране, в разных формах, но однородно по существу. Муралов рассказывает, что в московской военной организации большевиков мнение о необходимости захвата власти оказалось единодушным; однако «попытка решить вопрос конкретно, как этот захват провести, осталась нерешенной». Не хватало последнего соединительного звена.
В те дни когда Петроград стоял под знаком вывода гарнизона, Москва жила в атмосфере непрерывных стачечных столкновений. По инициативе фабричных комитетов большевистская фракция Совета выдвинула план: разрешать экономические конфликты путем декретов. Подготовительные шаги заняли немало времени. Только 23 октября советскими органами Москвы принят «революционный декрет № I»: рабочие и служащие на фабриках и заводах могут отныне приниматься и увольняться не иначе, как с согласия заводских комитетов. Это означало начать действовать как государственная власть. Неизбежный отпор правительства должен был, по мысли инициаторов, теснее сплотить массы вокруг Совета и привести к открытому конфликту. Замысел не получил проверки, так как переворот в Петрограде дал Москве, как и всей остальной стране, гораздо более повелительный мотив за восстание: надо было немедленно поддержать только что возникшее советское правительство.
Нападающая сторона почти всегда заинтересована в том, чтобы выглядеть обороняющейся. Революционная партия заинтересована в легальном прикрытии. Предстоящий съезд советов, по существу съезд переворота, являлся в то же время бесспорным для народных масс носителем если не всего суверенитета, то, по крайней мере, доброй его половины. Дело шло о восстании одного из элементов двоевластия против другого. Апеллируя к съезду как источнику власти, Военно-революционный комитет заранее обвинял правительство в том, что оно готовит покушение на советы. Это обвинение вытекало из обстановки. Поскольку правительство не намеревалось капитулировать без боя, оно не могло не готовиться к самообороне. Но этим самым оно подпадало под обвинение в заговоре против высшего органа рабочих, солдат и крестьян. В борьбе против съезда советов, который должен был низвергнуть Керенского, правительство заносило руку на источник власти, из которого вышел Керенский.
Было бы грубой ошибкой считать все это юридическими тонкостями, безразличными для народа: наоборот, именно в таком виде основные факты революции отражались в сознании масс. Эту исключительно выгодную завязку надо было использовать до конца. Давая естественному нежеланию солдат переходить из казармы в траншеи большую политическую цель и мобилизуя гарнизон для защиты съезда советов, революционное руководство ни в какой мере не связывало себе этим рук относительно срока восстания. Выбор дня и часа зависел от дальнейшего хода столкновения. Свобода маневрирования была у более сильного.
«Сначала победите Керенского, потом созывайте съезд», – повторял Ленин, опасавшийся подмены восстания конституционной игрой. Ленин явно не успел еще оценить новый фактор, врезавшийся в подготовку восстания и изменивший весь ее характер, именно острый конфликт между петроградским гарнизоном и правительством. Если съезд советов должен решить вопрос о власти; если правительство хочет раздробить гарнизон, чтобы не дать съезду стать властью; если гарнизон, не дожидаясь съезда советов, отказывается подчиняться правительству, то ведь это и значит, по существу, что восстание началось, не дожидаясь съезда советов, хоть и под прикрытием его авторитета. Политически отделять подготовку восстания от подготовки съезда советов было бы поэтому неправильно.
Лучше всего можно понять особенности октябрьского переворота путем сопоставления его с февральским. Прибегая к этому сравнению, не приходится, как в других случаях, условно допускать тождество целого ряда условий; они тождественны на самом деле, ибо дело идет в обоих случаях о Петрограде: та же арена боев, те же социальные группировки, тот же пролетариат и тот же гарнизон. Победа в обоих случаях достигается переходом большинства запасных полков на сторону рабочих. Но в рамках этих общих основных черт – какое огромное различие! Исторически дополняя друг друга на протяжении восьми месяцев, два петроградских переворота контрастностью своих черт как бы заранее предназначены для того, чтобы помочь лучше понять природу восстания вообще.
Февральское восстание именуют стихийным. В своем месте мы внесли в это определение все необходимые ограничения. Но верно во всяком случае то, что в феврале никто заранее не намечал путей переворота; никто не голосовал по заводам и казармам вопроса о революции; никто сверху не призывал к восстанию. Накоплявшееся в течение годов возмущение прорвалось наружу, в значительной мере неожиданно для самой массы.
Совсем иначе обстояло дело в октябре. В течение восьми месяцев массы жили напряженной политической жизнью. Они не только творили события, но и учились понимать их связь; после каждого действия они критически взвешивали его результаты. Советский парламентаризм стал повседневной механикой политической жизни народа. Если голосованием решались вопросы о стачке, об уличной манифестации, о выводе полка на фронт, могли ли массы отказаться от самостоятельного решения вопроса о восстании?
Из этого неоценимого и по существу единственного завоевания Февральской революции вырастали, однако, новые трудности. Нельзя было призвать массы к бою от имени Совета, не поставив вопрос формально перед Советом, т. е. не сделав задачу восстания предметом открытых прений, да еще с участием представителей враждебного лагеря. Необходимость создать особый, по возможности замаскированный, советский орган для руководства восстанием была очевидна. Но и это требовало демократических путей, со всеми их преимуществами и со всеми промедлениями. Постановление о Военно-революционном комитете, вынесенное 9 октября, получает окончательно осуществление только 20-го. Главная трудность, однако, не здесь. Воспользоваться большинством в Совете и создать комитет из одних большевиков значило бы вызвать недовольство беспартийных, не говоря уже о левых социалистах-революционерах и некоторых группах анархистов. Большевики в составе Военно-революционного комитета подчинялись решению своей партии, хотя не все без сопротивления. Но дисциплины никак нельзя было требовать от беспартийных и левых эсеров. Добиться от них априорного постановления о восстании в определенный день было бы немыслимо, да и ставить перед ними самый вопрос – крайне неосторожно. Через посредство Военно-революционного комитета можно было лишь вовлечь массы в восстание, обостряя обстановку со дня на день и делая конфликт неотвратимым. Не проще ли было, в таком случае, призвать к восстанию непосредственно от имени партии? Серьезные преимущества такого образа действий несомненны. Но едва ли не более очевидны его невыгоды. В тех миллионах, на которые партия законно рассчитывала опереться, необходимо различать три слоя: один, который уже шел за большевиками при всяких условиях; другой, наиболее многочисленный, который поддерживал большевиков, поскольку они действовали через советы; третий, который шел за советами, несмотря на то что в них господствовали большевики.
Эти три слоя различались не только по политическому уровню, но, в значительной мере, и по социальному составу. За большевиками, как партией, шли прежде всего промышленные рабочие, в первых рядах – потомственные пролетарии Петрограда. За большевиками, поскольку у них было легальное советское прикрытие, шло большинство солдат. За советами, независимо от того, или несмотря на то, что в них воцарилось засилье большевиков, шли наиболее консервативные прослойки рабочих, бывшие меньшевики и эсеры, боявшиеся оторваться от остальной массы; более консервативные части армии, вплоть до казаков; крестьяне, высвобождавшиеся из-под руководства эсеровской партии и хватавшиеся за ее левый фланг.
Было бы явной ошибкой отождествлять силу большевистской партии и силу руководимых ею советов: последняя была во много раз больше первой; однако же без первой она превращалась в бессилие. Таинственного здесь нет ничего. Соотношение между партией и Советом вырастало из неизбежного в революционную эпоху несоответствия между колоссальным политическим влиянием большевизма и его узким организационным охватом. Правильно примененный рычаг дает человеческой руке возможность поднять груз, во много раз превосходящий ее живую силу. Но без живой руки рычаг не больше, как мертвый шест.
На московской областной конференции большевиков, в конце сентября, один из делегатов доказывал: «В Егорьвске влияние большевиков безраздельно… Но сама по себе партийная организация слаба, находится в большом забросе; нет ни правильной регистрации, ни членских взносов». Диспропорция между влиянием и организацией, не везде столь резкая, была общим явлением. Широкие массы знали большевистские лозунги и советскую организацию. То и другое окончательно слилось для них в течение сентября – октября. Народ ждал, что именно советы укажут, когда и как осуществить программу большевиков.
Сама партия систематически воспитывала массы в этом духе. Когда в Киеве распространился слух, что готовится восстание, большевистский Исполком немедленно выступил с опровержением: «Никакое выступление без призыва Совета не должно иметь места… Ни шагу без Совета!» Опровергая 18 октября слухи о назначенном будто бы на 22-е восстании, Троцкий говорил: «Совет – учреждение выборное и… не может иметь решений, которые не были бы известны рабочим и солдатам…» Повторяемые ежедневно и подкрепляемые практикой такие формулы входили в плоть и кровь.
По рассказу прапорщика Берзина, на октябрьском военном совещании большевиков в Москве делегаты говорили: «Трудно сказать, выступят ли войска по зову Московского комитета большевиков. По зову Совета, пожалуй, выступят все». Между тем московский гарнизон еще в сентябре на 90 % голосовал за большевиков. На совещании 16 октября в Петрограде Бокий, от имени партийного комитета, докладывал: в Московском районе «выйдут по призыву Совета, но не партии»; в Невском районе – «за Советом пойдут все». Володарский тут же резюмировал оценку настроений в Петрограде такими словами: «Общее впечатление, что на улицу никто не рвется, но по призыву Совета все явятся». Ольга Равич вносит поправку: «Некоторые указали, что и по призыву партии». На петроградском гарнизонном совещании 18-го делегаты докладывали, что их полки для выступления ждут призыва Совета; никто не говорил о партии, несмотря на то что во главе многих частей стояли большевики: сохранить единство в казарме можно было, только связывая сочувствующих, колеблющихся и полувраждебных дисциплиной Совета. Гренадерский полк заявлял даже, что выступит лишь по приказу съезда советов. Уже самый факт, что агитаторы и организаторы, при оценке состояния масс, проводят каждый раз различие между Советом и партией, показывает, какое большое значение имел этот вопрос с точки зрения призыва к восстанию.
Шофер Митревич рассказывает, как во взводе грузовых автомобилей, где не удавалось добиться постановления в пользу восстания, большевики провели компромиссное предложение: «Мы выступать не будем ни за большевиков, ни за меньшевиков, а… без всяких замедлений будем выполнять все требования второго съезда советов». Большевики автогрузового взвода применяли в малом виде ту же обволакивающую тактику, которую применял Военно-революционный комитет. Митревич не доказывает, а рассказывает, – тем убедительнее его свидетельство!
Попытки вести восстание непосредственно через партию нигде не давали результатов. Сохранилось в высшей степени интересное свидетельство относительно подготовки переворота в Кинешме, в значительном пункте текстильной промышленности. После того как восстание в Московской области было поставлено в порядок дня, партийный комитет в Кинешме выбрал, для учета военных сил и средств и подготовки вооруженного восстания, особую тройку, названную почему-то директорией. «Надо сказать все же, – пишет один из членов директории, – что выбранная тройка на деле мало, кажется, что сделала. События пошли несколько иным путем… Областная стачка целиком захватила нас, и к моменту решающих событий организационный центр был перенесен в стачечный комитет и в Совет…» В скромном провинциальном масштабе повторилось то же, что и в Петрограде.
Партия приводила в движение Совет. Совет приводил в движение рабочих, солдат, отчасти крестьян. Что выигрывалось в массе, то терялось в скорости. Если представить этот аппарат передачи как систему зубчатых колес – сравнение, к которому, по другому поводу и в другой период, прибегал Ленин, – то можно сказать, что нетерпеливая попытка сочетать колесо партии непосредственно с гигантским колесом масс – минуя среднее колесо советов – грозила опасностью обломать зубья партийного колеса и все же не привести в движение достаточные массы.
Не менее реальной была, однако, и противоположная опасность – упущения благоприятной ситуации в результате внутренних трений советской системы. Теоретически рассуждая, наиболее выгодный момент для восстания сводится к такой-то точке во времени. О практическом уловлении этой идеальной точки не приходится, разумеется, и думать. Восстание может с успехом развернуться на повышающейся кривой, приближающейся к идеальной кульминации; но также и на снижающейся кривой, если соотношение сил не успело еще радикально измениться.
Вместо «момента» получается отрезок времени, измеряемый неделями, иногда месяцами. Большевики могли взять власть в Петрограде уже в начале июля. Но в этом случае они не удержали бы ее. Начиная с середины сентября они могли уже надеяться не только захватить власть, но и сохранить ее в своих руках. Если бы большевики замедлили с восстанием в конце октября, они, вероятно, но далеко не наверное, в течение известного времени имели бы еще возможность наверстать упущенное. Можно условно принять, что в течение трех-четырех месяцев, примерно сентября – декабря, политические предпосылки переворота были налицо: уже созрели и еще не распались. В этих рамках, которые задним числом легче установить, чем в процессе действия, у партии была известная свобода выбора, порождавшая неизбежные, подчас острые разномыслия практического характера.
Ленин предлагал поднять восстание уже в дни Демократического совещания. В конце сентября он считал всякую оттяжку не только опасной, но гибельной. «Ждать съезда советов, – писал он в начале октября, – ребяческая игра в формальность, позорная игра в формальность, предательство революции». Вряд ли, однако, в большевистской верхушке кто-либо руководствовался в этом вопросе формальными соображениями. Когда Зиновьев, например, требовал предварительного совещания с большевистской фракцией съезда советов, он искал не формальной санкции, а рассчитывал попросту на политическую поддержку провинциальных делегатов против ЦК. Но факт таков, что зависимость партии от Совета, который, в свою очередь, апеллировал к съезду советов, вносила в вопрос о сроке восстания элемент неопределенности, чрезвычайно и не без основания тревоживший Ленина.
Вопрос о том, когда призвать, тесно связан был с вопросом, кто призовет. Ленину слишком ясны были выгоды призыва от имени Совета; но он раньше других понял, какие трудности возникнут на этом пути. Он не мог не опасаться, особенно на расстоянии, что элементы торможения окажутся в советской верхушке еще сильнее, чем в ЦК, политику которого он и без того считал слишком нерешительной. К вопросу о том, кому начинать. Совету или партии, Ленин подходил альтернативно, но в первые недели решительно склонялся к самостоятельной инициативе партии. Тут не было и тени какого-либо принципиального противопоставления: речь шла о двух подходах к восстанию на одной и той же базе, в одной и той же обстановке, во имя одной и той же цели. Но это были все же два разных подхода.
Предложение Ленина окружить Александринку и арестовать Демократическое совещание исходило из того, что восстание будет возглавлено не Советом, а партией, непосредственно апеллирующей к заводам и казармам. Да иначе и быть не могло: провести подобный план через Совет было бы совершенно немыслимо. Ленин отдавал себе ясный отчет в том, что даже на верхах партии его замысел встретит противодействие; он заранее рекомендует «не гоняться за численностью» большевистской фракции совещания: при решительности сверху численность обеспечат низы. Смелый план Ленина давал несомненные выгоды быстроты и внезапности. Но он слишком обнажал партию, рискуя, в известных границах, противопоставить ее массам. Даже Петроградский Совет, будучи застигнут врасплох, мог бы, при первой же неудаче, растерять свое еще нестойкое большевистское большинство.