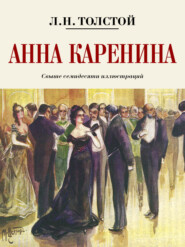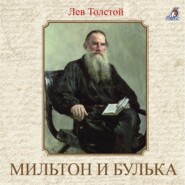По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 19. Анна Каренина. Части 5-8
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, скажи же, что? – сказал он, подсаживаясь к ней и следя за кругообразным движением маленьких ножниц.
– Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоем затылке.
– За что именно мне такое счастье? Ненатурально. Слишком хорошо, – сказал он, целуя ее руку.
– Мне, напротив, чем лучше, тем натуральнее.
– А у тебя косичка, – сказал он, осторожно поворачивая ее голову. – Косичка. Видишь, вот тут. Нет, нет мы делом занимаемся.
Занятие уже не продолжалось, и они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан.
– А из города приехали? – спросил Левин у Кузьмы.
– Только что приехали, разбираются.
– Приходи же скорее, – сказала она ему, уходя из кабинета, – а то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть.
Оставшись один и убрав свои тетради в новый, купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, всё с нею же появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям и неодобрительно покачивал головой на эти мысли; чувство, подобное раскаянию, мучало его. Что-то стыдное, изнеженное, Капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни. «Жить так не хорошо, – думал он. – Вот скоро три месяца, а я ничего почти не делаю. Нынче почти в первый раз я взялся серьезно за работу, и что же? Только начал и бросил. Даже обычные свои занятия – и те я почти оставил. По хозяйству – и то я почти не хожу и не езжу. То мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думал, что до женитьбы жизнь так себе, кое-как, не считается, а что после женитьбы начнется настоящая. А вот три месяца скоро, и я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя, надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгородить свою мужскую независимость. А то этак можно самому привыкнуть и ее приучить… Разумеется, она не виновата», говорил он себе.
Но трудно человеку недовольному не упрекать кого-нибудь другого, и того самого, кто ближе всего ему, в том, в чем он недоволен. И Левину смутно приходило в голову, что не то что она сама виновата (виноватою она ни в чем не могла быть), но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное («этот дурак Чарский: она, я знаю, хотела, но не умела остановить его»), «Да, кроме интереса к дому (это было у нее), кроме своего туалета и кроме broderie anglaise, у нее нет серьезных интересов. Ни интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена». Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что она готовилась к тому периоду деятельности, который должен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не подумал, что она чутьем знала это и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себя в минутах беззаботности и счастия любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнездо.
XVI.
Когда Левин вошел наверх, жена его сидела у нового серебряного самовара за новым чайным прибором и, посадив у маленького столика старую Агафью Михайловну с налитою ей чашкой чая, читала письмо Долли, с которою они были в постоянной и частой переписке.
– Вишь, посадила меня ваша барыня, велела с ней сидеть, – сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити.
В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Кити. Он видел, что, несмотря на все огорчение, причиненное Агафье Михайловне новою хозяйкой, отнявшею у нее бразды правления, Кити все-таки победила ее и заставила себя любить.
– Вот я и прочла твое письмо, – сказала Кити, подавая ему безграмотное письмо. – Это от той женщины, кажется, твоего брата… – сказала она. – Я не прочла. А это от моих и от Долли. Представь! Долли возила к Сарматским на детский бал Гришу и Таню; Таня была маркизой.
Но Левин не слушал ее; он, покраснев, взял письмо от Марьи Николаевны, бывшей любовницы брата Николая, и стал читать его. Это было уже второе письмо от Марьи Николаевны. В первом письме Марья Николаевна писала, что брат прогнал ее от себя без вины, и с трогательною наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, а что только убивает ее мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадет без нее по слабости своего здоровья, и просила брата следить за ним. Теперь она писала другое. Она нашла Николая Дмитриевича, опять сошлась с ним в Москве и с ним поехала в губернский город, где он получил место на службе. Но что там он поссорился с начальником и поехал назад в Москву, но дорогой так заболел, что едва ли встанет, – писала она. «Все о вас поминали, да и денег больше нет».
– Прочти, о тебе Долли пишет, – начала было Кити улыбаясь, но вдруг остановилась, заметив переменившееся выражение лица мужа.
– Что ты? Что такое?
– Она мне пишет, что Николай брат при смерти. Я поеду.
Лицо Кити вдруг переменилось. Мысли о Тане маркизой, о Долли, всё это исчезло.
– Когда же ты поедешь? – сказала она.
– Завтра.
– И я с тобой, можно? – сказала она.
– Кити! Ну, что это? – с упреком сказал он.
– Как что? – оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. – Отчего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать. Я…
– Я еду потому, что мой брат умирает, – сказал Левин. – Для чего ты…
– Для чего? Для того же, для чего и ты.
«И в такую для меня важную минуту она думает только о том, что ей будет скучно одной», подумал Левин. И эта отговорка в деле таком важном рассердила его.
– Это невозможно, – сказал он строго.
Агафья Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала.
– А я тебе говорю, что, если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно поеду, – торопливо и гневно заговорила она. – Почему невозможно? Почему ты говоришь, что невозможно?
– Потому, что ехать Бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам. Ты стеснять меня будешь, – говорил Левин, стараясь быть хладнокровным.
– Нисколько. Мне ничего не нужно. Где ты можешь, там и я…
– Ну, уже по одному тому, что там женщина эта, с которою ты не можешь сближаться.
– Я ничего не знаю и знать не хочу, кто там и что. Я знаю, что брат моего мужа умирает и муж едет к нему, и я еду с мужем, чтобы…
– Кити! Не рассердись. Но ты подумай, дело это так важно, что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелания остаться одной. Ну, тебе скучно будет одной, ну, поезжай в Москву.
– Вот, ты всегда приписываешь мне дурные, подлые мысли, – заговорила она со слезами оскорбления и гнева. – Я ничего, ни слабости, ничего… Я чувствую, что мой долг быть с мужем, когда он в горе, но ты хочешь нарочно сделать мне больно, нарочно хочешь не понимать…
– Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то! – вскрикнул Левин, вставая и не в силах более удерживать своей досады. Но в ту же секунду почувствовал, что он бьет сам себя.
– Так зачем ты женился? Был бы свободен. Зачем, если ты раскаиваешься? – заговорила она, вскочила и побежала в гостиную.
Когда он пришел за ней, она всхлипывала от слез.
Он начал говорить, желал найти те слова, которые могли бы не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляющуюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку, – она всё молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал: «Кити!» – вдруг она опомнилась, поплакала и примирилась.
Было решено ехать завтра вместе. Левин сказал жене, что он верит, что она желала ехать, только чтобы быть полезною, согласился, что присутствие Марьи Николаевны при брате не представляет ничего неприличного; но в глубине души он ехал недовольный ею и собой. Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда это было нужно (и как странно ему было думать, что он, так недавно еще не смевший верить тому счастью, что она может полюбить его, теперь чувствовал себя несчастным оттого, что она слишком любит его!), и недоволен собой за то, что не выдержал характера. Еще более он был во глубине души несогласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях. Уж одно, что его жена, его Кити, будет в одной комнате с девкой, заставляло его вздрагивать от отвращения и ужаса.
XVII.
Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования и делаются этою самою претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние; и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая современно железнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы – произвели на Левиных после их молодой жизни самое тяжелое чувство, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их.
Как всегда, оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно нумер, ни одного хорошего нумера не было: один хороший нумер был занят ревизором железной дороги, другой – адвокатом из Москвы, третий – княгинею Астафьевой из деревни. Оставался один грязный нумер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену зa то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им нумер.
– Иди, иди! – сказала она, робким, виноватым взглядом глядя на него.
Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какою он видел ее в Москве; то же шерстяное платье и голые руки и шея и то же добродушно-тупое, несколько пополневшее, рябое лицо.
– Ну, что? Как он? что?
– Очень плохо. Не встают. Они всё ждали вас. Они… Вы… с супругой.