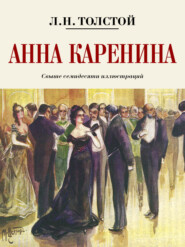По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Тома 18-19
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Очень рада вас видеть, – сказала княгиня. – Четверги, как всегда, мы принимаем.
– Стало быть, нынче?
– Очень рады будем видеть вас, – сухо сказала княгиня.
Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:
– До свидания.
В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.
– Ну что ж, едем? – спросил он. – Я всё о тебе думал, и я очень рад, что ты приехал, – сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.
– Едем, едем, – отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: «до свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано.
– В «Англию», или в «Эрмитаж»?
– Мне всё равно.
– Ну, в «Англию», – сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать этой гостиницы. – У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.
Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слов: до свидания.
Степан Аркадьич дорогой сочинял меню обеда.
– Ты ведь любишь тюрбо? – сказал он Левину, подъезжая.
– Что? – переспросил Левин. – Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо.
X.
Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и со шляпой набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему Татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой, и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках Француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта Француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта Француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, poudre de riz и vinaigre de toilette.[4 - [рисовой пудры и туалетного уксуса.]] Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастия.
– Сюда, ваше сиятельство, пожалуйте, здесь не обеспокоят ваше сиятельство, – говорил особенно липнувший старый, белесый Татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. – Пожалуйте, ваше сиятельство, – говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу ухаживая и за его гостем.
Мгновенно разостлав свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился перед Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.
– Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.
– А! устрицы.
Степан Аркадьич задумался.
– Не изменить ли план, Левин? – сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. – Хороши ли устрицы? Ты смотри.
– Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.
– Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?
– Вчера получены-с.
– Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?
– Мне всё равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.
– Каша а ла рюсс, прикажете? – сказал Татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.
– Нет, без шуток, что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, – прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, – чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.
– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями....
– Прентаньер, – подхватил Татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.
– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом.... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи....» и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.
– Что же пить будем?
– Я что хочешь, только немного, шампанское, – сказал Левин.
– Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белою печатью?
– Каше блан, – подхватил Татарин.
– Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.
– Слушаю-с. Столового какого прикажете?
– Нюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.
– Слушаю-с. Сыру вашего прикажете?
– Ну да, пармезану. Или ты другой любишь?
– Нет, мне всё равно, – не в силах удерживать улыбки говорил Левин.
И Татарин с развевающимися фалдами побежал и через пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.
Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.
– А недурны, – говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. – Недурны, – повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на Татарина.
Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже Татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам, с заметною улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.
– А ты не очень любишь устрицы? – сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, – или ты озабочен? А?
Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, Татар – всё это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.