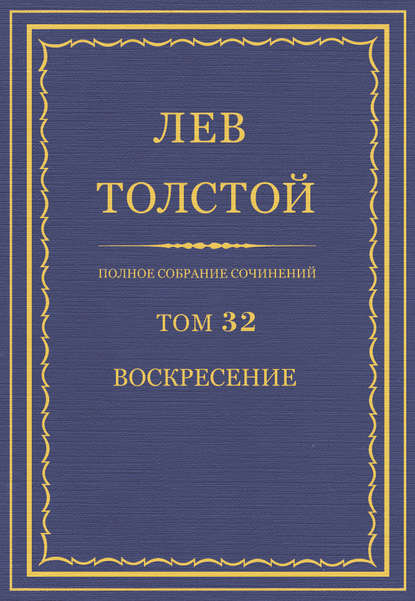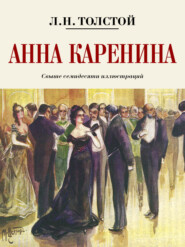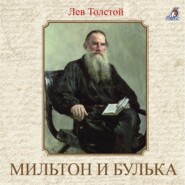По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 32. Воскресение
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот это Катя, – сказала мать, оправляя с голубыми полосами вязаное одеяло, из-под которого высовывалась маленькая белая ступня. – Хороша? Ведь ей только два года.
– Прелесть!
– А это Васюк, как его дедушка прозвал. Совсем другой тип. Сибиряк. Правда?
– Прекрасный мальчик, – сказал Нехлюдов, рассматривая спящего на животе пузана.
– Да? – сказала мать, многозначительно улыбаясь.
Нехлюдов вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат, умирающего Крыльцова, Катюшу со всем ее прошедшим. И ему стало завидно и захотелось себе такого же изящного, чистого, как ему казалось теперь, счастья.
Несколько раз похвалив детей и тем хотя отчасти удовлетворив мать, жадно впитывающую в себя эти похвалы, он вышел за ней в гостиную, где англичанин уже дожидался его, чтобы вместе, как они уговорились, ехать в тюрьму. Простившись со старыми и молодыми хозяевами, Нехлюдов вышел вместе с англичанином на крыльцо генеральского дома.
Погода переменилась. Шел клочьями спорый снег и уже засыпал дорогу, и крышу, и деревья сада, и подъезд, и верх пролетки, и спину лошади. У англичанина был свой экипаж, и Нехлюдов велел кучеру англичанина ехать в острог, сел один в свою пролетку и с тяжелым чувством исполнения неприятного долга поехал за ним в мягкой, трудно катившейся по снегу пролетке.
XXV.
Мрачный дом острога с часовым и фонарем под воротами, несмотря на чистую, белую пелену, покрывавшую теперь всё – и подъезд, и крышу, и стены, производил еще более, чем утром, мрачное впечатление своими по всему фасаду освещенными окнами.
Величественный смотритель вышел к воротам и, прочтя у фонаря пропуск, данный Нехлюдову и англичанину, недоумевающе пожал могучими плечами, но, исполняя приказание, пригласил посетителей следовать за собой. Он провел их сначала во двор и потом в дверь направо и на лестницу в контору. Предложив им садиться, он спросил, чем может служить им, и, узнав о желании Нехлюдова видеть теперь же Маслову, послал за нею надзирателя и приготовился отвечать на вопросы, которые англичанин тотчас же начал через Нехлюдова делать ему.
– На сколько человек построен з?мок? – спрашивал англичанин. – Сколько заключенных? Сколько мужчин, сколько женщин, детей? Сколько каторжных, ссыльных, добровольно следующих? Сколько больных?
Нехлюдов переводил слова англичанина и смотрителя, не вникая в смысл их, совершенно неожиданно для себя смущенный предстоящим свиданием. Когда среди фразы, переводимой им англичанину, он услыхал приближающиеся шаги, и дверь конторы отворилась, и, как это было много раз, вошел надзиратель и за ним повязанная платком, в арестантской кофте Катюша, он, увидав ее, испытал тяжелое чувство.
«Я жить хочу, хочу семью, детей, хочу человеческой жизни», мелькнуло у него в голове в то время, как она быстрыми шагами, не поднимая глаз, входила в комнату.
Он встал и ступил несколько шагов ей навстречу, и лицо ее показалось ему сурово и неприятно. Оно опять было такое же, как тогда, когда она упрекала его. Она краснела и бледнела, пальцы ее судорожно крутили края кофты, и то взглядывала на него, то опускала глаза.
– Вы знаете, что вышло помилование? – сказал Нехлюдов.
– Да, надзиратель говорил.
– Так что, как только получится бумага, вы можете выйти и поселиться где хотите. Мы обдумаем…
Она поспешно перебила его:
– Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним.
Несмотря на всё свое волнение, она, подняв глаза на Нехлюдова, проговорила это быстро, отчетливо, как будто вперед приготовив всё то, что она скажет.
– Вот как! – сказал Нехлюдов.
– Что ж, Дмитрий Иванович, коли он хочет, чтобы я с ним жила, – она испуганно остановилась и поправилась, – чтоб я при нем была. Мне чего же лучше? Я это за счастье должна считать. Что же мне?..
«Одно из двух: или она полюбила Симонсона и совсем не желала той жертвы, которую я воображал, что приношу ей, или она продолжает любить меня и для моего же блага отказывается от меня и навсегда сжигает свои корабли, соединяя свою судьбу с Симонсоном», подумал Нехлюдов, и ему стало стыдно. Он почувствовал, что краснеет.
– Если вы любите его… – сказал он.
– Что любить, не любить? Я уж это оставила, и Владимир Иванович ведь совсем особенный.
– Да, разумеется, – начал Нехлюдов. – Он прекрасный человек, и я думаю…
Она опять перебила его, как бы боясь, что он скажет лишнее или что она не скажет всего.
– Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите, – сказала она, глядя ему в глаза своим косым таинственным взглядом.– Да, видно, уж так выходит. И вам жить надо.
Она сказала ему то самое, что он только что говорил себе, но теперь уже он этого не думал, а думал и чувствовал совсем другое. Ему не только было стыдно, но было жалко всего того, что он терял с нею.
– Я не ожидал этого, – сказал он.
– Что же вам тут жить и мучаться. Довольно вы помучались, – сказала она и странно улыбнулась.
– Я не мучался, а мне хорошо было, и я желал бы еще служить вам, если бы мог.
– Нам, – она сказала: «нам» и взглянула на Нехлюдова, – ничего не нужно. Вы уж и так сколько для меня сделали. Если бы не вы… – она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал.
– Меня-то уж вам нельзя благодарить, – сказал Нехлюдов.
– Что считаться? Наши счеты Бог сведет, – проговорила она, и черные глаза ее заблестели от вступивших в них слез.
– Какая вы хорошая женщина! – сказал он.
– Я-то хорошая? – сказала она сквозь слезы, и жалостная улыбка осветила ее лицо.
– Are you ready?[79 - Вы готовы?] – спросил между тем англичанин.
– Directly,[80 - Сейчас.] – ответил Нехлюдов и спросил ее о Крыльцове.
Она оправилась от волнения и спокойно рассказала, что знала: Крыльцов очень ослабел дорогой, и его тотчас же поместили в больницу. Марья Павловна очень беспокоилась, просилась в больницу в няньки, но ее не пускали.
– Так мне итти? – сказала она, заметив, что англичанин дожидается.
– Я не прощаюсь; я еще увижусь с вами, – сказал Нехлюдов.
– Простите, – сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не «прощайте», а «простите», Нехлюдов понял, что из двух предположений о причине ее решения верным было второе: она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а, уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним.
Она пожала его руку, быстро повернулась и вышла.
Нехлюдов оглянулся на англичанина, готовый итти с ним, но англичанин что-то записывал в свою записную книжку. Нехлюдов, не отрывая его, сел на деревянный диванчик, стоявший у стены, и вдруг почувствовал страшную усталость. Он устал не от бессонной ночи, не от путешествия, не от волнения, а он чувствовал, что страшно устал от всей жизни. Он прислонился к спинке дивана, на котором сидел, закрыл глаза и мгновенно заснул тяжелым, мертвым сном.
– Что же, угодно теперь пройти по камерам? – спросил смотритель.
Нехлюдов очнулся и удивился тому, где он. Англичанин кончил свои записи и желал осмотреть камеры. Нехлюдов, усталый и безучастный, пошел за ним.
XXVI.
Пройдя сени и до тошноты вонючий коридор, в котором, к удивлению своему, они застали двух прямо на пол мочащихся арестантов, смотритель, англичанин и Нехлюдов, провожаемые надзирателями, вошли в первую камеру каторжных. В камере, с нарами в середине, все арестанты уже лежали. Их было человек 70. Они лежали голова с головой и бок с боком. При входе посетителей все, гремя цепями, вскочили и стали у нар, блестя своими свеже-бритыми полуголовами. Остались лежать двое. Один был молодой человек, красный, очевидно в жару, другой – старик, не переставая охавший.