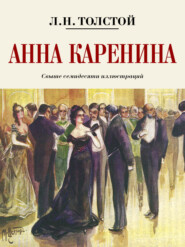По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Тома 18-19
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, что после огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и слов спорящие приходили наконец к сознанию того, что то, что они долго бились доказать друг другу, давным давно, с начала спора, было известно им, но что они любят разное и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные; а иногда испытывал наоборот: выскажешь наконец то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. Это-то самое он хотел сказать.
Она сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла.
– Я понимаю: надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно…
Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей.
Щербацкий отошел от них, и Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги.
Они возобновили разговор, шедший за обедом: о свободе и занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье. Он подтверждал это тем, что ни одна семья не может обойтись без помощницы, что в каждой, бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наемные или родные.
– Нет, – сказала Кити, покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами, – девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама…
Он понял ее с намека.
– О! да! – сказал он, – да, да, да, вы правы, вы правы!
И он понял всё, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин, только, тем, что видел в сердце Кити страх девства униженья, и, любя ее, он почувствовал этот страх и униженье и сразу отрекся от своих доводов.
Наступило молчание. Она всё чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем всё усиливающееся напряжение счастия.
– Ах! я весь стол исчертила! – сказала она и, положив мелок, сделала движенье, как будто хотела встать.
«Как же я останусь один без нее?» с ужасом подумал он и взял мелок. – Постойте, – сказал он, садясь к столу. – Я давно хотел спросить у вас одну вещь. Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.
– Пожалуйста, спросите.
– Вот, сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили:«когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.
Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «то ли это, что я думаю?».
– Я поняла, – сказала она покраснев.
– Какое это слово? – сказал он, указывая на н, которым означалось слово никогда.
– Это слово значит никогда, – сказала она, – но это неправда!
Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: Т, я, н, м, и, о.
Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядящую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».
Он взглянул на нее вопросительно, робко.
– Только тогда?
– Да, – ответила ее улыбка.
– А т… А теперь? – спросил он.
– Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! – Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, чт? было».
Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас».
Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.
– Я поняла, – шопотом сказала она.
Он сел и написал длинную фразу. Она всё поняла и, не спрашивая его: так ли?, взяла мел и тотчас же ответила.
Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастия. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастием глазах ее он понял всё, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: Да.
– В secretaire играете? – сказал старый князь подходя. – Ну, поедем однако, если ты хочешь поспеть в театр.
Левин встал и проводил Кити до дверей.
В разговоре их всё было сказано; было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром.
XIV.
Когда Кити уехала и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее, поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался, как смерти, этих четырнадцати часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы не оставаться одному, чтоб обмануть время. Степан Аркадьич был бы для него самый приятный собеседник, но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив и что он любит его и никогда, никогда не забудет того, что он для него сделал. Взгляд и улыбка Степана Аркадьича показали Левину, что он понимал как должно это чувство.
– Что ж, не пора умирать? – сказал Степан Аркадьич, с умилением пожимая руку Левина.
– Нннеет! – сказал Левин.
Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав:
– Как я рада, что вы встретились опять с Кити, надо дорожить старыми дружбами.
Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как всё это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не оставаться одному, прицепился к своему брату.
– Ты куда едешь?
– Я в заседание.
– Ну, и я с тобой. Можно?
– Отчего же? поедем, – улыбаясь сказал Сергей Иванович. – Что с тобой нынче?
– Со мной? Со мной счастье! – сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. – Ничего тебе? а то душно. Со мной счастье! Отчего ты не женился никогда?
Сергей Иванович улыбнулся. – Я очень рад, она, кажется, славная де… —начал было Сергей Иванович.
– Не говори, не говори, не говори!—закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. «Она славная девушка» были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству.
Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало.
– Ну, всё-таки можно сказать, что я очень рад этому.
Она сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла.
– Я понимаю: надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно…
Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей.
Щербацкий отошел от них, и Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги.
Они возобновили разговор, шедший за обедом: о свободе и занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье. Он подтверждал это тем, что ни одна семья не может обойтись без помощницы, что в каждой, бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наемные или родные.
– Нет, – сказала Кити, покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами, – девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама…
Он понял ее с намека.
– О! да! – сказал он, – да, да, да, вы правы, вы правы!
И он понял всё, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин, только, тем, что видел в сердце Кити страх девства униженья, и, любя ее, он почувствовал этот страх и униженье и сразу отрекся от своих доводов.
Наступило молчание. Она всё чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем всё усиливающееся напряжение счастия.
– Ах! я весь стол исчертила! – сказала она и, положив мелок, сделала движенье, как будто хотела встать.
«Как же я останусь один без нее?» с ужасом подумал он и взял мелок. – Постойте, – сказал он, садясь к столу. – Я давно хотел спросить у вас одну вещь. Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.
– Пожалуйста, спросите.
– Вот, сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили:«когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.
Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «то ли это, что я думаю?».
– Я поняла, – сказала она покраснев.
– Какое это слово? – сказал он, указывая на н, которым означалось слово никогда.
– Это слово значит никогда, – сказала она, – но это неправда!
Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: Т, я, н, м, и, о.
Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядящую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».
Он взглянул на нее вопросительно, робко.
– Только тогда?
– Да, – ответила ее улыбка.
– А т… А теперь? – спросил он.
– Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! – Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, чт? было».
Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас».
Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.
– Я поняла, – шопотом сказала она.
Он сел и написал длинную фразу. Она всё поняла и, не спрашивая его: так ли?, взяла мел и тотчас же ответила.
Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастия. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастием глазах ее он понял всё, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: Да.
– В secretaire играете? – сказал старый князь подходя. – Ну, поедем однако, если ты хочешь поспеть в театр.
Левин встал и проводил Кити до дверей.
В разговоре их всё было сказано; было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром.
XIV.
Когда Кити уехала и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее, поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался, как смерти, этих четырнадцати часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы не оставаться одному, чтоб обмануть время. Степан Аркадьич был бы для него самый приятный собеседник, но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив и что он любит его и никогда, никогда не забудет того, что он для него сделал. Взгляд и улыбка Степана Аркадьича показали Левину, что он понимал как должно это чувство.
– Что ж, не пора умирать? – сказал Степан Аркадьич, с умилением пожимая руку Левина.
– Нннеет! – сказал Левин.
Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав:
– Как я рада, что вы встретились опять с Кити, надо дорожить старыми дружбами.
Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как всё это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не оставаться одному, прицепился к своему брату.
– Ты куда едешь?
– Я в заседание.
– Ну, и я с тобой. Можно?
– Отчего же? поедем, – улыбаясь сказал Сергей Иванович. – Что с тобой нынче?
– Со мной? Со мной счастье! – сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. – Ничего тебе? а то душно. Со мной счастье! Отчего ты не женился никогда?
Сергей Иванович улыбнулся. – Я очень рад, она, кажется, славная де… —начал было Сергей Иванович.
– Не говори, не говори, не говори!—закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. «Она славная девушка» были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству.
Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало.
– Ну, всё-таки можно сказать, что я очень рад этому.