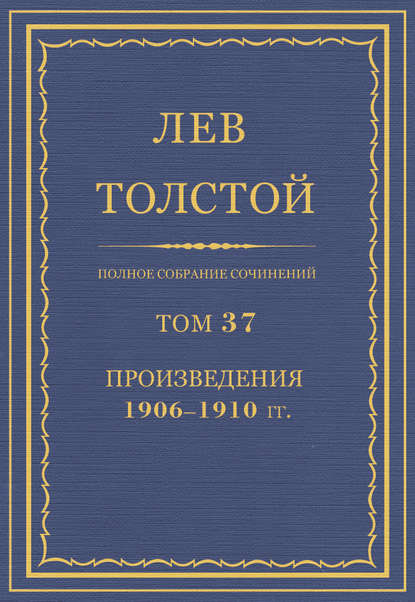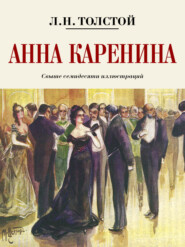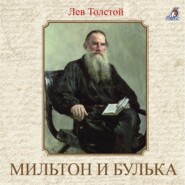По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 37. Произведения 1906–1910 гг.
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(Продолжительное молчание. )
Крестьянин. Ну, а подати как же? Тоже не отдавать?
Проезжий. Уж это как сам знаешь. Если у тебя самого дети голодные, так известное дело, прежде своих накормить.
Крестьянин. Так, значит, вовсе и солдат не надо?
Проезжий. А на кой их ляд? Миллионы да миллионы с вас же собирают, шутка ли прокормить да одеть ораву такую. Близу миллионов дармоедов этих, а польза от них только та, что вам же земли не дают да вас же стрелять будут.
Крестьянин (вздыхает и качает головой). Так-то так. Да кабы все сразу. А то упрись один или два, застрелят или в Сибирь сошлют, только и толков будет.
Проезжий. А есть люди и теперь, и молодые ребята, поодиночке, а стоят за божий закон, в солдаты не идут: не могу, мол, по Христову закону быть убийцей. Делайте, что хотите, а ружья в руки не возьму.
Крестьянин. Ну и что же?
Проезжий. Сажают в арестантские – сидят там, сердешные, по три, по четыре года. А сказывают, там хорошо им, потому начальство тоже люди, уважают их. А других и вовсе отпускают – говорят: не годится, слаб здоровьем. А он косая сажень в плечах, а не годится, потому – боятся принять такого, он другим расскажет, что солдатство против закона божеского. И отпускают.
Крестьянин. Ну?
Проезжий. Бывает, что отпускают, а бывает, что и помирают там. Да и в солдатах помирают, да еще калечат – кто без ноги, без руки…
Крестьянин. Ну и прокурат же ты малый. Хорошо бы так, да не выйдет так дело.
Проезжий. Отчего не выйдет?
Крестьянин. А оттого…
Проезжий. От чего от того?
Крестьянин. Оттого, что начальству власть дадена.
Проезжий. Да ведь власть-то у начальства только оттого, что вы его слухаете. А не слушайте начальства, и не будет и власти.
Крестьянин (качает головой). И чудно ты говоришь. Как же без начальства? Без начальства никак невозможно.
Проезжий. Известно дело, невозможно. Да только кого ты начальством считать будешь: исправника али бога? Кого хочешь слушать: исправника или бога?
Крестьянин. Да это что и говорить. Больше бога не будешь. Первое дело – по-божьи жить.
Проезжий. А коли по-божьи жить, так бога и слушать надо, а не людей. А будешь по-божьи жить, не станешь с чужой земли людей сгонять, не станешь в десятских, старостах ходить, подати отбирать, не пойдешь в стражники, в урядники, а пуще всего в солдаты не пойдешь, не будешь обещаться людей убивать.
Крестьянин. Так как же попы долгогривые-то? Им видать, что не по закону, а что ж они не учат, как должно?
Проезжий. Об этом не знаю. Они свою линию ведут, а ты свою веди.
Крестьянин. То-то долгогривые черти.
Проезжий. Это напрасно: что других осуждать. Надо каждому самому об себе помнить.
Крестьянин. Это как есть.
(Долгое молчание. Крестьянин покачивает головой и усмехается.)
Крестьянин. Это, значит, ты к тому, что если дружно взяться всем сразу, – напором, значит, – так и земля наша будет и податей не будет?
Проезжий. Нет, брат, не к тому я говорю. Не к тому я говорю, что по-божьи жить, так и земля наша будет и податей платить не станем, а к тому говорю, что жизнь наша плохая только оттого, что сами плохо живем. Жили бы по-божьи, и плохой жизни бы не было. О том, какая была бы наша жизнь, если бы по-божьи жили, – один бог знает, а только то верно, что плохой жизни не было бы. Сами пьем, ругаемся, деремся, судимся, завиствуем, ненавидим людей, закона божьего не принимаем, людей осуждаем: то толстопузые, то долгогривые, а помани нас денежками, мы готовы на всякую службу идти: и в сторожа, и в десятские, и в солдаты, и своего же брата разорять, душить и убивать готовы. Сами живем по-дьявольски, а на людей жалуемся.
Крестьянин. Это верно. Да только трудно, уж как трудно! Другой раз и не стерпишь.
Проезжий. А для души терпеть надо.
Крестьянин. Это как есть! Оттого и плохо живем, что про бога забываем.
Проезжий. То-то и дело. Оттого и жизнь плохая. А то глядишь, забастовщики говорят: дай вот этих да вот этих господ да богачей толстопузых перебьем, – всё от них, – и жизнь наша хорошая будет. И били и бьют, а пользы всё нет никакой. Тоже и начальство: дай только, говорит, сроку, перевешаем да переморим по тюрьмам тысячу, другую народа, устроится жизнь хорошая. А глядишь, жизнь только всё хужеет.
Крестьянин. Да это как есть. Разве можно не судом, надо по закону.
Проезжий. Вот то-то и дело. Одно из двух: либо богу служи, либо дьяволу. Хочешь дьяволу – пьянствуй, ругайся, дерись, ненавиствуй, корыстовайся, не божьего закона слушайся, а людского, – и жизнь будет плохая; а хочешь служить богу, – его одного слухай: не то, что грабить или убивать, а никого не осуждай, не ненавиствуй, не влипай в худые дела, и не будет плохой жизни.
Крестьянин (вздыхает). Хорошо ты, старичок, сказываешь, дюже хорошо, только мы мало слухаем. Ох, кабы побольше так наставляли нас, другое бы было. А то придут из города, тоже свое болтают, как дела исправить, болтают хлестко, а слушать нечего. Спасибо, старичок. Речи твои хорошие.
Где же ложиться будешь? На печке, что ль? Баба подстелет.
Л. Толстой.
12-го октября 1909 г.
ПЕСНИ НА ДЕРЕВНЕ
Голоса и гармония были слышны точно рядом, но за туманом никого не было видно. Был будний день, и потому песни поутру сначала удивили меня.
«Да это, верно, рекрутов провожают», – вспомнил я бывший на-днях разговор о том, что пятеро назначено из нашей деревни, и пошел по направлению к невольно притягивающей к себе веселой песне. Когда я подходил к песенникам, песня и гармония затихли. Песенники, то есть провожаемые ребята, вошли в каменную, двухсвязную избу, к отцу одного из призываемых. Против дверей стояла небольшая кучка баб, девушек, детей. Пока я расспрашивал у баб, чьи да чьи ребята идут и зачем они зашли в избу, из двери вышли сопровождаемые матерями и сестрами и сами молодые ребята. Их было пятеро: четверо холостых, один женатый. Деревня наша под городом, и почти все призывные работали в городе и были одеты по-городски, очевидно в самые лучшие одежды: пиджаки, новые картузы, высокие щегольские сапоги. Естественно, больше других бросался в глаза невысокий, хорошо сложенный парень, с милым, веселым, выразительным лицом, с чуть пробивающимися усиками и бородкой и блестящими карими глазами. Как только он вышел, он тотчас же взялся за большую дорогую гармонику, висевшую у него через плечо, и, поклонившись мне, тотчас же, быстро перебирая клавиши, заиграл веселую «барыню» и, в самый раз такта, бойко, отрывисто шагая, тронулся вдоль улицы.
Рядом с ним шел тоже невысокий, коренастый белокурый малый. Он бойко поглядывал по сторонам и лихо подхватывал второй голос, когда запевало выводил первый. Это был женатый. Эти двое шли впереди. Остальные же трое, так же хорошо одетые, шли позади их и ничем особенным не выделялись, разве только тем, что один из них был высок ростом.
Я шел с толпой за парнями. Песни всё были веселые, и во время шествия не было никаких выражений горя. Но как только подошли к следующему двору, в котором должно было также быть угощение, и остановились, так началось вытье женщин. Трудно было разобрать, что они причитали. Слышны были только отдельные слова: смеретушка… отца матери… родиму сторонушку… И после каждого стиха голосящая, втягивая в себя воздух, заливалась сначала протяжными стонами, а потом закатывалась истерическим хохотом. Это были матери, сестры уходивших. Кроме голошения родственниц, слышны были уговоры посторонних. «Да будет, Матрена, я чай, уморилась», – услыхал я слова одной женщины, уговаривавшей голосящую.
Парни вошли в избу, я остался на улице, разговаривая с знакомым крестьянином Васильем Ореховым, бывшим моим школьником. Сын его был один из пятерых, тот самый женатый парень, который шел, подпевая подголоском.
– Что же? жалко? – сказал я.
– Что же делать? Жалей не жалей, служить надо.
И он рассказал мне всё свое хозяйственное положение. У него было три сына: один был дома, другой был этот уходящий в солдаты, третий жил, так же как и второй, в людях и хорошо подавал в дом. Этот же уходящий, очевидно, был плохой подавальщик. «Жена городская, к нашему делу не годится. Отрезанный ломоть. Только бы сам себя кормил. Жалко-то жалко. А что же поделаешь».
Пока мы говорили, парни вышли из дома на улицу, и опять началось голошение, взвизги, хохот, уговоры. Постояв у двора минут пять, тронулись дальше, и опять гармоника и песни. Нельзя было не дивиться на энергию, бодрость игрока, как он верно отбивал темп, как притопывал, останавливаясь, как замолкал и потом в самый раз подхватывал развеселым голосом, поглядывая кругом своими ласковыми карими глазами. У него, очевидно, было настоящее и большое музыкальное дарование. Я смотрел на него, и когда мы встречались с ним глазами, – так по крайней мере мне казалось, – он как будто смущался и, двинув бровью, отворачивался и еще бойчее заливался. Когда подошли к пятому, последнему двору и ребята вошли в дом, я вошел за ними. Парней всех пятерых усадили за убранный скатертью стол. На столе были хлеб и вино. Хозяин, тот самый, с которым я говорил и который провожал женатого сына, наливал и подносил. Ребята почти ничего не пили, отливали не больше четверти стаканчика, а то только пригубливали и отдавали. Хозяйка резала ковригу и подавала закусывать. Хозяин подливал стаканчики и обносил. В то время, как я смотрел на парней, с печки, подле самого того места, где я сидел, слезла женщина в самой показавшейся мне неожиданной и странной одежде. На женщине было светлозеленое, кажется шелковое, платье с модными украшениями, на ногах были ботинки с высокими каблуками, белокурые волосы были причесаны по-модному, и в ушах были большие золотые серьги-кольца. Лицо женщины было не грустное и не веселое, но как будто обиженное. Она сошла на пол, бойко постукивая своими, с высокими каблучками, новыми ботинками, не глядя на ребят, вышла в сени. Всё в этой женщине: и ее одеяние, и ее обиженное лицо, и в особенности серьги – всё было так чуждо всему окружающему, что я никак не мог понять, кто она могла быть и зачем попала на печку в избу Василья. Я спросил у сидевшей рядом со мною женщины, кто она.
– Сноха Васильева. Из горничных она, – отвечали мне.