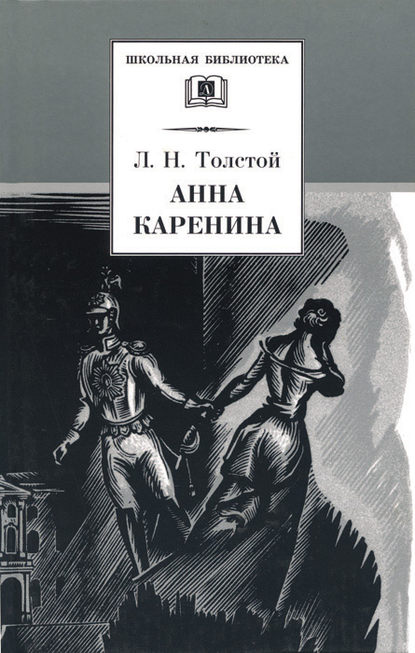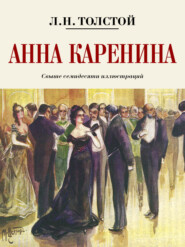По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Анна Каренина. Том 1. Части 1-4
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оставалась ли у героини Толстого возможность повернуть назад в решающую минуту? Ведь мы хорошо знаем, что писателю с первых дней работы над романом было ясно, чем кончится дело. Но, художник-реалист, он все же до последнего мгновения не лишал Анну свободы выбора. Правда, выбор давно уже состоялся. Тем не менее, пока Анна жила на свете, он не мог считаться окончательным. Иначе это был бы языческий фатум, рок, а «роман широкого дыхания» открывал именно христианские истины о мире и человеке.
Среди жестоких, убийственных мыслей, которые терзали героиню незадолго до ее отчаянного шага, внезапно, как светлое пятно, выплывало воспоминание о далекой, еще в юности, поездке в Троице-Сергиеву лавру, правда, кажется, лишь затем, чтобы Анна острее ощутила весь ужас нынешнего своего положения. Потом, проезжая по городу, она слышала звон колоколов московских церквей. Но вражеский голос тотчас же начинал твердить свое: «Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга…» И вот у самого края пропасти, возле идущего мимо состава, борьба за ее душу вспыхивала в последний раз. Бесконечно любящий каждое свое создание (разве можно прочесть иначе сказанное Толстым?) Господь посылал героине последнюю надежду. Решаясь на страшный шаг, Анна перекрестилась. «Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями». Анна не смогла вернуться. Слишком многое мешало этому.
* * *
Героиня романа, конечно, была ответственна за свою судьбу, за судьбы других людей: мужа Алексея Александровича, сына Сережи, даже в какой-то мере Алексея Вронского. Ее жизненный путь оказался настолько драматичным, так больно отозвался в жизни окружающих именно вследствие свободно сделанного выбора.
Тем не менее, «проживая» вместе с Анной историю губительной страсти, мы невольно ловим себя на том, что героиня – не только отступница от божеских законов, она еще и жертва того нравственного хаоса, которым охвачен весь мир вокруг нее. Собственно, «большой» роман Толстого и раскрывал в поэтических образах и картинах этот поразивший русское образованное общество духовный недуг, а «малый» роман – история неверной жены – являлся вопиющим, заостренным его выражением. Возможность сохранить себя, удержаться на праведном пути существовала для Анны, как существует она для всякого человека. И все же властвующий над героями романа порядок (а точнее, беспорядок) вещей весь дышал катастрофой, предлагал катастрофу как наиболее естественное в его пределах направление развития.
Семейная жизнь Карениных оказалась поставлена под угрозу не только своевольным порывом героини. Подобно всякому союзу, заключенному пред Богом, брак Анны и Алексея Александровича, без сомнения, был союзом священным, спасительным. И все-таки это семейство так и не стало вполне живым и полнокровным. Не случайно Долли Облонская – «нравственный барометр» во всем, что говорилось на страницах романа о семейной жизни, вспоминала, как не понравился ей петербургский дом Карениных, когда она гостила у своей золовки: «что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта».
Однажды в романе, незадолго до его трагической развязки, Толстой, словно между делом, расскажет «обыкновенную историю» женитьбы Алексея Александровича. И мы узнаем, как во время его губернаторства в провинции тетка героини искусно свела важного чиновника со своей воспитанницей, а потом поставила Каренина перед выбором: или жениться на девушке, которую он скомпрометировал, или во избежание скандала уехать из города. Так для Анны была найдена и составилась «блестящая партия».
Разве не оскорблялось тут изначально, не омрачалось человеческой хитростью и корыстью великое таинство брака? Что же из того, что многие семейства в России создавались подобным образом, что на первый взгляд выглядели они счастливыми, а в ином случае (хочется верить) и были таковыми? Людям все равно приходилось годами залечивать «родовую травму», тяготевшую над их союзом. Впрочем, губернатор Каренин, похоже, ничего не имел против такой женитьбы. С молодых лет вовлеченный в «механическую» сферу государственной жизни, он имел такие же «механические» представления о браке, а саму Анну, вероятно, в то время никто ни о чем и не спрашивал.
Служебная деятельность Алексея Александровича, как то и бывает обыкновенно, оказалась важнейшим обстоятельством, сформировавшим семейный уклад Карениных. «Роман широкого дыхания», пожалуй, впервые в мировой литературе столь последовательно обнаруживал эту повседневную, нерасторжимую связь частного и общественного в жизни человека. «Каренинский» сюжет выглядел в этом смысле особенно показательным. Но здесь Толстой, помимо всего прочего, не мог не отдать известную дань привычным для него, хотя и неустойчивым на протяжении 1870-х годов понятиям о естественной жизни и цивилизации, о божественном непринужденном и враждебном ему оформленном мировых началах.
Уже на страницах «Войны и мира» государство и государственные люди представляли собой своеобразный «полюс небытия». В романе «Воскресение» Толстой прямо восстал против этого, как говорил он тогда, «вредного насильнического образования», против его слуг. «Анна Каренина» подчинялась иным художественным законам. Тем не менее писатель и на этот раз, где-то с мягкой иронией, а где-то и с подлинным состраданием к «людям государства», говорил о бессмысленной, по его мнению, области человеческих интересов и занятий.
Иная по сравнению с двумя другими толстовскими романами тональность «Анны Карениной» вполне естественно делала на ее страницах картины государственной жизни более объемными, уравновешенными. Однако существо дела от этого не менялось. Кажется, что может быть важнее для России разумного, взвешенного устройства национальных отношений? Вопрос о плодородии сельскохозяйственных земель тоже всегда оставался у нас далеко не последним. Но два главнейших проекта, которые занимали на службе Алексея Александровича (его пост не назван в романе, хоть ясно, что Каренин – один из видных сановников империи), – дело об устройстве инородцев и дело орошения полей Зарайской губернии – представали у Толстого всего лишь многолетними блужданиями отвлеченной, «бумажной» мысли, никак не связанными с реальностью. Да и само объединение этих столь непохожих, совершенно разных по своему значению проблем в ведении одного человека не столько раскрывало масштаб его интересов и забот, сколько подчеркивало их безжизненность.
Видные государственные посты в России XIX века занимали, как правило, люди крупного калибра, деятельные и дальновидные. На фоне этих реальных фигур отечественной истории Каренин при всей его психологической достоверности все-таки выглядел мелковатым. У Толстого иначе и быть не могло: мелкой, несущественной по-прежнему виделась писателю сама государственная деятельность. «Всю жизнь свою, – говорилось в романе, – Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее».
Как же могли сложиться отношения Алексея Александровича с молодой женой в той области бытия, где требуется жить не по формуле, а по уму и по чувству? Сам того не замечая, Каренин привносил в собственную семью атмосферу служебной натянутости, имея твердые, правильные понятия о хорошем и дурном, становился беспомощным там, где нужно было просто действовать в согласии с этими понятиями. Он не умел наполнить семейную форму живым человеческим содержанием. В этом не было его вины, но он сам вел дело к тому, чтобы так или иначе потерять семью.
Нечто подобное, как можно заключить из романа, происходило и в жизни многих сослуживцев Каренина. Когда, ошеломленный изменой жены, он начинал вспоминать тех, кого постигло такое же несчастье, то без труда находил примеры из недавнего прошлого. «Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, Драм… Да, и Драм… такой честный, дельный человек… Семенов, Чагин, Сигонин, – вспоминал Алексей Александрович». Наблюдая за своим героем, Толстой, конечно, сочувствовал ему, но между тем, кажется, был не в силах скрыть и своего иронического отношения к той среде, которая сама порождает жизненные драмы, наивно полагая при этом, что она ни за что не несет ответственности.
Эта государственная, по мысли Толстого, во всем искусственная среда не только «иссушала», делала формальными семейные отношения вовлеченных в нее людей. Она имела также оборотную сторону, готовую поставить под сомнение и саму святость брачного союза, на словах признаваемого священным и незыблемым.
Жизнь петербургского света, неотделимая от жизни правительственных кругов, предлагала человеку из высшего общества многочисленные соблазны. Здесь, конечно, следили за соблюдением внешних приличий. Тем не менее двусмысленные отношения мужчины и женщины, даже супружеская измена, если она не приводила к разводу и общественному скандалу, вовсе не считались преступлением среди завсегдатаев светских салонов, скорее, наоборот, украшали в их глазах неверных мужей и в особенности неверных жен. Так жила светская приятельница Анны, княгиня Бетси Тверская, многие другие довольные собой представительницы избранного круга.
Получалось, что «отвлеченная», «нечувственная» деятельность Алексея Александровича лишила семейную жизнь героини эмоциональной силы и полноты, а петербургский свет – изнанка этой формальной сферы бытия – обратил ее живые чувства в губительное, преступное русло. Ведь это свет в лице той же княгини Бетси (падение героини, разумеется, служило для нее лучшим самооправданием) всячески поощрял отношения Анны и Вронского, жадно следил за развитием этих отношений. Он не простил Анне только одного – силы и глубины ее увлечения, готовности открыто идти навстречу своей страсти. В этом смысле героиня, конечно, была честнее, искреннее окружающих ее фальшивых, вечно готовых к лицемерию светских людей. Но там, где она увидела выход из «эмоционального плена», в действительности открывалась дорога к полному душевному помрачению, окончательному жизненному тупику. При всем различии своего положения два Алексея – муж и любовник – играли по отношению к Анне в чем-то похожие роли. Первый из них невольно подготовил почву для будущей катастрофы, в то время как второй оказался ее непосредственным орудием. Все совершилось по законам нравственно опустошенного, перевернутого мира.
И все-таки выбор оставался за Анной. Семейная жизнь Карениных не была такой уж беспросветно выхолощенной. Подобно любым домашним отношениям, она соединила двух людей тысячами едва уловимых связей. То живое, чувствительное, что есть в каждом человеке, пусть заглушенное многолетней привычкой «отвлеченной» деятельности, все-таки обнаруживало себя в отношении Алексея Александровича к жене. Ведь по-своему он любил Анну. Высший промысел тяжело и непросто, вопреки условиям среды, сбывался и в этом браке. Сын Сережа – Божие благословение заключенного союза – стал его последним, безусловным оправданием. Именно взгляд сына на все происходящее с матерью (он не в состоянии был понять, кто такой Вронский, как следует ему относиться к этому дяде), дальнейшая судьба маленького Сережи представали в «Анне Карениной» как последняя мера совершенного героиней жизненного выбора. В Сереже находились ее опора, ее утешение, источник сил для дальнейшей жизни с неловким и сухим Алексеем Александровичем.
Среди нескольких семей, показанных в романе, только одна с первых же страниц выглядела откровенно неблагополучной. Собственно, знаменитая формула Толстого о счастливых и несчастливых семействах, такая существенная для всего произведения, как раз и возникла в связи с рассказом о поставленном на грань катастрофы доме Облонских. Ветреный брат Анны, Степан Аркадьич (как не увидеть тут некую генетическую, родовую «нравственную эластичность»?), не умел и, главное, не хотел оставаться верным жене, пустил на самотек хозяйственные дела, безоглядно проматывал уже не свое, а доставшееся ему от жены состояние. А все-таки несчастливая Долли была преданной, заботливой матерью, продолжала терпеливо и с любовью нести свой крест. Внутренний бунт против собственной судьбы (именно в связи с мыслями о поступке Анны) порой поднимался и у нее в душе. Но сила нравственного долга перед детьми, даже перед их безответственным отцом накрепко привязала ее к домашнему укладу.
Разумеется, хоть неверный, но веселый и полнокровный Стива был совсем не то что холодный Алексей Александрович. Да и вообще очень многое в жизни Анны и Долли складывалось по-разному. Только до конца посвятившая себя детям измученная Долли почему-то чувствовала себя порой по-настоящему спокойной и счастливой. Анна пусть вынужденно, но отказалась от Сережи – своей единственной надежды. Да и, осуществись ее желание, останься сын вместе с ней, какое место занял бы он рядом с увлеченными страстью Анной и Вронским?
Вопрос о будущей судьбе Сережи, тем более о судьбе девочки, которую Анна родила вне брака, хотя и выходил за пределы событий, описанных в романе, имел самое прямое отношение к той «мысли семейной», что постоянно находилась в поле зрения художника.
Произведение Толстого имело одну странную на первый взгляд особенность. Кроме членов патриархальной семьи Щербацких, никто из центральных персонажей «Анны Карениной» с детских лет не знал и, как правило, не мог любить семейные отношения. Про Алексея Вронского это говорилось прямо: «Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе». Видимо, эта невольная отчужденность от семейного начала, нравственное «нечувствие», когда преступник просто не понимает тяжести собственного поступка (Вронский без малейших сомнений соблазнял замужнюю женщину), как раз и стала причиной того, что писатель, всегда расположенный к действующим лицам «Анны Карениной», все-таки недолюбливал этого героя. Не случайно в описаниях графа Вронского настойчиво, десятки раз, упоминалась одна и та же самодовольная, даже хищная примета: его сплошные белые зубы. Не случайно и то, что писатель, показывая в последней части романа «выбитого из седла» самоубийством возлюбленной, уезжающего на войну Вронского-добровольца, «заставил» его мучиться жестокой зубной болью.
Но и другие персонажи, будь то Анна, Степан Аркадьич, Алексей Александрович Каренин, Варенька (эта «открытая душа», девушка, с которой Кити Щербацкая встретилась на водах за границей, играла в романе далеко не последнюю роль), тоже оказались обделены в детские годы семейным, домашним теплом. То же самое Константин и Николай Левины, третий из братьев, рожденный от другого отца Сергей Иванович Кознышев. Так возникала картина почти всеохватного сиротства, повального разрушения семейной традиции. Для героев исчезала сама возможность передачи опыта построения семьи. Сережа и маленькая дочь Анны становились уже вторым поколением, «отлученным» от домашнего очага.
Катастрофа семейного начала, во множестве лиц показанная на страницах «Анны Карениной», точно отразила «нравственный климат», установившийся в образованных кругах русского общества 1870-х годов. Обновленный реализм Толстого (даже если писатель находился порой во власти глубоко укоренившихся собственных философских воззрений) безошибочно «схватывал» земные, ощутимые проявления духовной угрозы, которая нависла над страной. Не только высший свет, не только правительственные сферы – вся «просвещенная» Россия выглядела тут зараженной губительным духом смуты. Та страшная мистическая сила, что поманила, закружила, повела навстречу гибели главную героиню романа, повсеместно пронизывала у Толстого жизненную атмосферу избранных сословий. Это дьявольское начало, где вопиюще открыто, а где подспудно, вкрадчиво, постоянно напоминало о себе. Не только Анна – все были его жертвами, и все увлекали друг друга, увлекали собственных детей ему навстречу. Возникал настоящий порочный круг.
Вероятно, такой взгляд на вещи выглядел излишне мрачным, в чем-то он уже предвещал поздние толстовские «обличения цивилизации». Одновременно с этой «замутившейся» страной существовала ведь и другая, праведная Россия. Те же придворные круги, та же правительственная среда знали немало цельных, духовно устойчивых натур. Тем не менее Толстой, может быть не всегда и не везде замечая светоносные лучи в русском предгрозовом пейзаже, правдиво и честно говорил о главном. Сам находясь на духовном распутье, еще не предлагая обществу никаких «рецептов исцеления», он показывал «из глубины» великую русскую беду наступающей эпохи: безбожие, кризис веры. Поэзия романа соединяла в себе пушкинскую гармонию и пушкинскую мировую тревогу.
Демоническое, смертельное начало обрело столь могучую власть над обществом и светом, над душами героев «Анны Карениной» именно вследствие ослабления, иссякания в избранной среде праведных начал национальной жизни. Среди персонажей романа, пожалуй, только семейство князя Щербацкого оставалось твердо воцерковленным. И спасительная рука Творца действительно вела домашних старого князя через все испытания опасного времени. Как тут не вспомнить «синхронно» прозвучавшее в доме Щербацких (они ожидали на следующий день объяснения Кити и Вронского), троекратно повторенное русское «Господи помилуй!». Это родители и дочь, находясь в разных комнатах, не сговариваясь, просили помощи у Спасителя. И помощь пришла, как часто бывает, не видная сразу. Начавшийся роман Анны и Вронского все поставил на свои места. Полученная девушкой душевная рана по прошествии времени оказалась целебной, помогла избавиться от увлечения светом, подготовила ее будущий счастливый брак с Константином Левиным…
Но то Щербацкие. В остальных случаях открывалась картина самая удручающая. Откровенными нигилистами среди лиц, показанных в романе, были, пожалуй, только смолоду мятущийся Николай Левин, да еще гениальный художник Михайлов, который в Италии по просьбе Вронского написал «западающий» в душу всем, кто бы его ни увидел, портрет Анны (этот персонаж отдельными чертами напоминал «изученного» Толстым осенью 1873 года художника И. Н. Крамского). Честный Константин Левин до последней части романа тоже признавался себе и другим, что он ни во что не верит. Остальные представители образованной среды (и это было еще страшнее) либо верили «напоказ», оставаясь в глубине души полнейшими безбожниками, как легкомысленный Стива Облонский, либо искренне, как Алексей Александрович, почитали себя христианами, утратив память о самом духе отеческой веры. Иные из них, подобно графине Лидии Ивановне – светской знакомой Анны и ее мужа, были увлечены всевозможными религиозными суррогатами, иные (яркая примета времени!) занимались «вызыванием духов» – столоверчением, которое всегда подвергалось осуждению Церкви. При первом своем появлении в романе Вронский как раз и предлагал собравшимся в доме Щербацких устроить забавы ради такой вот спиритический сеанс.
Добрые, живые люди, увиденные в свете неосуждающей, «божественной» поэзии, часто, слишком часто находились вне Источника жизни и добра. Кто-то из них просто не замечал посылаемых Свыше возможностей опомниться (так это было со Степаном Аркадьичем), кто-то переживал моменты прозрения, но всем заведенным ходом вещей снова увлекался на ложные пути. Жизненный строй, послушный темному мировому началу, не отпускал человека так легко.
«Каренинский» сюжет однажды «взлетал» в романе на огромную высоту, откуда особенно ясно были видны суть и смысл всего происходящего с героями. После рождения в доме Карениных незаконного ребенка Анна заболела и находилась при смерти. Именно тогда потрясенный, измученный Алексей Александрович вдруг явил себя таким, каким никто не ожидал его увидеть. Пережитые страдания очистили, освободили в нем совсем другого человека. Все лучшее, что прежде скрывалось под сухой служебной оболочкой, что невозможно было даже предположить в этом живущем по регламенту государственном деятеле, вдруг вырвалось наружу. Обманутый муж простил Анну, принял, как своего, чужого ребенка, у постели умирающей жены примирился со своим обидчиком Вронским (тогда-то Вронский, прийдя домой, и попытался свести счеты с жизнью).
Этот испытанный Карениным внутренний переворот может показаться на страницах произведения даже несколько искусственным, надуманным. На самом деле Толстой знал, о чем писал. Каренин пережил христианское прозрение именно так, как может и должен его переживать человек принципа: решительно и сразу. Тут намечался действительный выход из мучительных, даже не с появлением Вронского, а много раньше, запутанных отношений. Праведный порыв Алексея Александровича (так же, как зло умножает зло, добро имеет бесконечную способность воздействовать на мир) не оставил равнодушной выздоравливающую Анну, да и Вронский, оправившись после неудачной попытки самоубийства, кажется, решил искать избавления от своей страсти, собрался ехать в Ташкент, куда давно звал его генерал Серпуховской.
Увы, никому из участников разыгравшейся драмы не дано было исцелиться. Навестивший Карениных симпатичный, обаятельный Стива, сам не ведая, что творит, сперва «как человек передовых воззрений» без труда убедил сестру окончательно оставить мужа, а потом доказал на все готовому в то время Алексею Александровичу необходимость отпустить жену навстречу ее «свободному чувству». Оставшись один, жестоко осмеянный светом, с пошатнувшимся служебным положением Каренин утешился в обществе графини Лидии Ивановны, погрузившись, как и она, в мистическое учение проповедника и «ясновидящего» шарлатана Ландо. Тот сухой, жестокий человек, каким Алексей Александрович являлся в конце романа, и близко не напоминал Каренина в период его духовного просветления.
Образ языческого Рима, который безумно сжигает себя в диких удовольствиях и суеверных культах, неоднократно и по разному поводу возникал на страницах «Анны Карениной». Даже милый князь Щербацкий, однажды повстречав новичка Константина Левина в московском дворянском клубе, задал своему зятю шутливый, но не лишенный смысла вопрос: «Ну, что? Как тебе нравится наш храм праздности?» Но особенно часто аналогия с погибающим Римом возникала в картине убийственно опасных офицерских скачек, собравших весь цвет петербургского общества. Начиная с имени «Гладиатор», которое носил конь офицера Махотина, главного соперника Вронского, и кончая кем-то сказанной фразой: «Недостает только цирка со львами», – все в этой захватывающей дух картине приводило на память смертельно больную древнюю цивилизацию.
Мир, о котором говорил Толстой, принадлежал иному времени, иной стране. Здесь каждому с молодых лет был открыт некогда воссиявший в римских катакомбах, державно утвержденный на руинах языческих капищ святым императором Константином истинный путь спасения. Но среда, показанная в романе, все дальше уклонялась от этого данного Христом, ставшего на века судьбой русского народа праведного пути. Ни Анна, ни Вронский в их беде ни разу не вспомнили о покаянии, точно так же, как забыли о нем (хоть, возможно, и бывая периодически на исповеди) все или почти все люди одного с ними круга.
Помнил ли о нем сам создатель «Анны Карениной» или все-таки под этой утраченной святыней он имел в виду свою «естественную веру», ту, что несколько лет спустя он дерзко назовет христианской? Как бы там ни было, свободный художник – Толстой середины 1870-х годов умел сказать много больше того, что вынашивал долгие годы, с чем не мог решительно расстаться и теперь Толстой-философ. На страницах «Анны Карениной» великий поэт действительно во всем превосходил парадоксального религиозного мыслителя.
* * *
Первые читатели «Анны Карениной», критики, писавшие о произведении, нередко бывали озадачены новым и очень своеобразным его построением. Неповторимый облик толстовского шедевра, как некогда это происходило с «Евгением Онегиным» Пушкина, «Мертвыми душами» Гоголя, «Героем нашего времени» Лермонтова, трудно укладывался в сознании современников. Про «Анну Каренину» часто говорили: «Два романа в одном романе», – ив этих словах отчетливо слышался упрек писателю за «странность» его книги.
Сам Толстой не принимал подобных упреков. Напротив, он считал композицию «Анны Карениной» своей большой авторской удачей, гордился архитектурной стройностью только что законченного труда. Второй, «левинский», сюжет «участвовал» в общем развитии свободного романа так же необходимо, как и его «несущая» «каренинская» линия. История Константина Левина, возможно, вопреки первоначальным намерениям Толстого, не только составила могучий контраст повествованию о домашнем (и национальном, общественном) русском разладе, но постепенно стала важнейшим элементом «катастрофической» проблематики романа. Более того, роман не пришел к завершению со смертью его главной героини. В последней, восьмой, его части теперь уже благополучный Левин оказался единственной фигурой по-своему эпохальной, поставленной перед необходимостью духовного выбора.
Что этот герой, больше похожий на бурлака, чем на помещика, займет среди персонажей «Анны Карениной» совершенно особое место, становилось очевидно уже при первом его появлении в романе. Левин принадлежал по рождению к той же самой привилегированной русской среде, которую описывал художник. У него было общее с ней прошлое: Московский университет. Но Левин – действующее лицо произведения – определенно «выпадал» из того избранного круга, где прошли его детство и юность, куда и теперь в силу своего общественного положения он вынужден был порой возвращаться.
Его жизненный путь (и это становилось все более заметным по мере того, как «разгорался», набирал силу «каренинский» сюжет романа, возникали новые и новые картины русского духовного хаоса) выглядел у Толстого действительной, а не ложной, как то происходило в случае с Анной, попыткой разорвать порочную связь явлений, найти в этом мире твердую почву под ногами.
В духе своей среды человек неверующий, Левин тем не менее бессознательно устранялся от участия в делах и развлечениях образованного общества, внутренне отторгал его. Этот занятый хозяйством «сельский житель» (с точки зрения многих своих знакомых просто «дикий помещик»), изредка навещая Первопрестольную, что бы ни происходило с ним, решительно «выламывался» из окружения: заходил ли спор по философским, социальным, экономическим вопросам, приходилось ли ему просто обедать со своим приятелем Стивой в одном из лучших ресторанов города… Он был другой: «чудак», нарушитель общепризнанных правил, наивный, как ребенок, возмутитель спокойствия.
Но почему именно Левин, тем более что он атеист, оказался способен на такое внутреннее неприятие духовно пошатнувшегося мира? И всегда ли был он прав в этом своем отторжении? Разумеется, в жизни, особенно русской, можно встретить людей, наделенных исключительным даром нравственной отзывчивости, чувствительных к любым проявлениям добра и зла (другое дело, что без руководства Церкви, вне традиции этот дар может увести человека сколь угодно далеко от своего Источника). Здесь писатель по-прежнему оставался тонким реалистом. Левин действительно представлял собой очень яркий национальный характер. Более того его духовная неуспокоенность, подобно тому как это происходило с «чувственными» Анной и Стивой, тоже представала в романе по-своему генетической. Известный дикими выходками брат Левина, Николай, безусловно, был одной крови с Константином. Только у резкого Николая все обернулось губительными крайностями, а Константин оказался наделен теплой, расположенной к людям душой.
Исключительное положение, занятое на страницах произведения этим героем, имело между тем еще одну и, конечно, главную причину. Левин оказался образом во многих отношениях автобиографическим. Еще современники обратили внимание на то, что, в общем, нетипичная для русского дворянина фамилия героя, скорее всего, является производной от имени автора произведения. Их догадка была не так уж далека от истины. Разумеется, Левин – не писатель Толстой. Но очень многие стороны биографии художника так или иначе «прозвучали» в этом художественном образе. Ведь и сам Толстой годами жил в Ясной Поляне, увлеченно занимался хозяйством… В истории женитьбы Левина и его жизни после свадьбы отдельные штрихи тоже походили на те обстоятельства, при которых состоялся брак Толстого и его жены Софьи Андреевны. Да и как было рассказать об этой таинственной области человеческого бытия, не вспоминая первые совместные радости и огорчения?
Еще более значительным для создания «левинского сюжета» оказалось внутреннее сходство между автором и его героем. Левин стал далеко не первым и не последним среди персонажей Толстого, духовно близких писателю. На страницах его романов и повестей часто присутствовали один или несколько таких «толстовских героев», и они, как правило, испытывали на прочность, постигали, утверждали всем ходом своей жизни философские воззрения художника.
Вероятно, того же хотел Толстой и в случае с Константином Левиным. И действительно Левин нередко смотрел на вещи прямо по-толстовски. Интуитивно отворачиваясь от пороков своего сословия, он решительно причислял к этим порокам все оформленное, цивилизованное, выходящее за пределы естественного чувства. Но в отличие от многих других «авторских персонажей» писателя, он все-таки был ограничен на страницах «большого» романа в собственном постижении мира. Левинские «истины» никак не могли называться в «Анне Карениной» последними, окончательными. Толстой, несомненно, «говорил из Левина», но одновременно он и рассматривал в Левине самого себя, подчиненного иным, более сложным и богатым, чем его собственная философия, мировым законам.
Поэзия свободного романа делала свое дело. Мы любим Николеньку Иртеньева из ранней трилогии писателя «Детство. Отрочество. Юность», любим Дмитрия Нехлюдова, проходящего, изменяясь со временем, через все творчество Толстого, любим Дмитрия Оленина из повести «Казаки» и тем более любим Андрея Болконского и Пьера Безухова – благородных, искренних персонажей «Войны и мира». Но Константин Левин мил нашему сердцу как-то по-особому. В нем нет ничего утвердительного, заранее предрешенного. Сам Толстой отразился в этом образе с неожиданно теплой, трогательной, домашней стороны. Здесь мы находим все самое лучшее, что покоряло в этом «башибузуке», что не давало расстаться с ним даже в трудные годы его «религиозного диктаторства» глубоко верующей двоюродной тетке писателя, его многолетнему другу и корреспонденту фрейлине А. А. Толстой, что знали связанные с ним повседневными узами семейной жизни родные и близкие люди.
Константин Левин и созидательное семейное начало действительно были неразделимы в романе. Практическая деятельность Левина, круг его интересов (именно в связи с этим героем, пожалуй, особенно ярко обнаруживал себя универсальный, «энциклопедический» склад произведения) выглядели у Толстого очень обширными. Левин, то приходя в отчаяние от невозможности одолеть вековое безразличие крестьянина (теперь уже не крепостного мужика, а наемного работника) к чужому, «барскому» хозяйству, то утешаясь обильными плодами своих трудов, горячо, упорно занимался земледелием и скотоводством. Эта область его жизни изображалась Толстым, на удивление, тепло и человечно. Должно быть, оттого она и сохранила для читателя, в том числе современного, столь захватывающий интерес (чего стоит один только согревающий душу рассказ про отелившуюся любимицу героя, племенную корову по имени Пава!). Левин, опять же подходя к делу со своей чувствительной точки зрения, увлеченно писал экономический трактат. Самые разные стороны действительности, только под углом наивно-почвенных воззрений, глубоко и серьезно занимали этого героя. Но в центре всего находилась его постоянная мысль о собственном доме, о семье.
Обостренное нравственное чувство не только уводило Левина от заведенного в избранном обществе «самоубийственного» порядка вещей. Оно указало ему также спасительную почву, на которой было возможно восстановление распавшегося мира: глубинно отвергаемую этим обществом семейную жизнь. Левин и появлялся впервые в романе, приезжая в Москву из дорогой его сердцу сельской глуши с одним единственным намерением: просить руки давно им любимой княжны Кити Щербацкой.
Неясная память о годах самого первого детства, о распавшейся когда-то семейной гармонии заставляла героя искать традиционные, поверенные дедами и отцами жизненные пути. Отношение Левина к его избраннице – взволнованное, трепетное – соединило многолетние мечты героя о лучшем, устойчивом мире и вековые моральные ценности русского народа. Оно было чистым и целомудренным. «Любовь к женщине, – говорил о Левине Толстой, – он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье».
Вмешательство грубой, демонической силы первоначально разрушило планы героя в отношении Кити. Увлеченная Вронским, она, все-таки сознавая в душе всю губительность своего поступка, отказала Левину. Да и, пожалуй, эта девушка, потерявшая себя в светской суете, в то время была ему не пара. Требовалось время для того, чтобы подготовить их союз. «Браки совершаются на Небесах» – эта истина непреложно заявляла о себе в «романе широкого дыхания».
История женитьбы Левина – новое, по прошествии времени, объяснение с Кити, сватовство, венчание – предстала на страницах «Анны Карениной» как ослепительный полюс света, тем более что все совершалось параллельно другому – мрачному, гнетущему (и чем дальше, тем больше) – «каренинскому» сюжету. «Какой чудесный и яркий контраст нечистой страсти и чистых чувств!» – говорил по этому поводу H. Н. Страхов. Казалось бы, художник рассказывал о вещах самых обыкновенных. Но тут происходило нечто действительно чудесное, невиданное ни до, ни после Толстого в мировом искусстве. Встреча Левина и Кити после долгой разлуки, Левин зимней бессонной ночью у открытого окна и утром на московских улицах перед походом в дом Щербацких с последним решительным предложением, волнения в доме невесты, Левин и Кити в храме идут вокруг аналоя. Трепет, сияние, воздух наполняли собой каждое из этих описаний. Земная человеческая жизнь вся была пронизана в них неземным божественным присутствием.
Среди жестоких, убийственных мыслей, которые терзали героиню незадолго до ее отчаянного шага, внезапно, как светлое пятно, выплывало воспоминание о далекой, еще в юности, поездке в Троице-Сергиеву лавру, правда, кажется, лишь затем, чтобы Анна острее ощутила весь ужас нынешнего своего положения. Потом, проезжая по городу, она слышала звон колоколов московских церквей. Но вражеский голос тотчас же начинал твердить свое: «Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга…» И вот у самого края пропасти, возле идущего мимо состава, борьба за ее душу вспыхивала в последний раз. Бесконечно любящий каждое свое создание (разве можно прочесть иначе сказанное Толстым?) Господь посылал героине последнюю надежду. Решаясь на страшный шаг, Анна перекрестилась. «Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями». Анна не смогла вернуться. Слишком многое мешало этому.
* * *
Героиня романа, конечно, была ответственна за свою судьбу, за судьбы других людей: мужа Алексея Александровича, сына Сережи, даже в какой-то мере Алексея Вронского. Ее жизненный путь оказался настолько драматичным, так больно отозвался в жизни окружающих именно вследствие свободно сделанного выбора.
Тем не менее, «проживая» вместе с Анной историю губительной страсти, мы невольно ловим себя на том, что героиня – не только отступница от божеских законов, она еще и жертва того нравственного хаоса, которым охвачен весь мир вокруг нее. Собственно, «большой» роман Толстого и раскрывал в поэтических образах и картинах этот поразивший русское образованное общество духовный недуг, а «малый» роман – история неверной жены – являлся вопиющим, заостренным его выражением. Возможность сохранить себя, удержаться на праведном пути существовала для Анны, как существует она для всякого человека. И все же властвующий над героями романа порядок (а точнее, беспорядок) вещей весь дышал катастрофой, предлагал катастрофу как наиболее естественное в его пределах направление развития.
Семейная жизнь Карениных оказалась поставлена под угрозу не только своевольным порывом героини. Подобно всякому союзу, заключенному пред Богом, брак Анны и Алексея Александровича, без сомнения, был союзом священным, спасительным. И все-таки это семейство так и не стало вполне живым и полнокровным. Не случайно Долли Облонская – «нравственный барометр» во всем, что говорилось на страницах романа о семейной жизни, вспоминала, как не понравился ей петербургский дом Карениных, когда она гостила у своей золовки: «что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта».
Однажды в романе, незадолго до его трагической развязки, Толстой, словно между делом, расскажет «обыкновенную историю» женитьбы Алексея Александровича. И мы узнаем, как во время его губернаторства в провинции тетка героини искусно свела важного чиновника со своей воспитанницей, а потом поставила Каренина перед выбором: или жениться на девушке, которую он скомпрометировал, или во избежание скандала уехать из города. Так для Анны была найдена и составилась «блестящая партия».
Разве не оскорблялось тут изначально, не омрачалось человеческой хитростью и корыстью великое таинство брака? Что же из того, что многие семейства в России создавались подобным образом, что на первый взгляд выглядели они счастливыми, а в ином случае (хочется верить) и были таковыми? Людям все равно приходилось годами залечивать «родовую травму», тяготевшую над их союзом. Впрочем, губернатор Каренин, похоже, ничего не имел против такой женитьбы. С молодых лет вовлеченный в «механическую» сферу государственной жизни, он имел такие же «механические» представления о браке, а саму Анну, вероятно, в то время никто ни о чем и не спрашивал.
Служебная деятельность Алексея Александровича, как то и бывает обыкновенно, оказалась важнейшим обстоятельством, сформировавшим семейный уклад Карениных. «Роман широкого дыхания», пожалуй, впервые в мировой литературе столь последовательно обнаруживал эту повседневную, нерасторжимую связь частного и общественного в жизни человека. «Каренинский» сюжет выглядел в этом смысле особенно показательным. Но здесь Толстой, помимо всего прочего, не мог не отдать известную дань привычным для него, хотя и неустойчивым на протяжении 1870-х годов понятиям о естественной жизни и цивилизации, о божественном непринужденном и враждебном ему оформленном мировых началах.
Уже на страницах «Войны и мира» государство и государственные люди представляли собой своеобразный «полюс небытия». В романе «Воскресение» Толстой прямо восстал против этого, как говорил он тогда, «вредного насильнического образования», против его слуг. «Анна Каренина» подчинялась иным художественным законам. Тем не менее писатель и на этот раз, где-то с мягкой иронией, а где-то и с подлинным состраданием к «людям государства», говорил о бессмысленной, по его мнению, области человеческих интересов и занятий.
Иная по сравнению с двумя другими толстовскими романами тональность «Анны Карениной» вполне естественно делала на ее страницах картины государственной жизни более объемными, уравновешенными. Однако существо дела от этого не менялось. Кажется, что может быть важнее для России разумного, взвешенного устройства национальных отношений? Вопрос о плодородии сельскохозяйственных земель тоже всегда оставался у нас далеко не последним. Но два главнейших проекта, которые занимали на службе Алексея Александровича (его пост не назван в романе, хоть ясно, что Каренин – один из видных сановников империи), – дело об устройстве инородцев и дело орошения полей Зарайской губернии – представали у Толстого всего лишь многолетними блужданиями отвлеченной, «бумажной» мысли, никак не связанными с реальностью. Да и само объединение этих столь непохожих, совершенно разных по своему значению проблем в ведении одного человека не столько раскрывало масштаб его интересов и забот, сколько подчеркивало их безжизненность.
Видные государственные посты в России XIX века занимали, как правило, люди крупного калибра, деятельные и дальновидные. На фоне этих реальных фигур отечественной истории Каренин при всей его психологической достоверности все-таки выглядел мелковатым. У Толстого иначе и быть не могло: мелкой, несущественной по-прежнему виделась писателю сама государственная деятельность. «Всю жизнь свою, – говорилось в романе, – Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее».
Как же могли сложиться отношения Алексея Александровича с молодой женой в той области бытия, где требуется жить не по формуле, а по уму и по чувству? Сам того не замечая, Каренин привносил в собственную семью атмосферу служебной натянутости, имея твердые, правильные понятия о хорошем и дурном, становился беспомощным там, где нужно было просто действовать в согласии с этими понятиями. Он не умел наполнить семейную форму живым человеческим содержанием. В этом не было его вины, но он сам вел дело к тому, чтобы так или иначе потерять семью.
Нечто подобное, как можно заключить из романа, происходило и в жизни многих сослуживцев Каренина. Когда, ошеломленный изменой жены, он начинал вспоминать тех, кого постигло такое же несчастье, то без труда находил примеры из недавнего прошлого. «Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, Драм… Да, и Драм… такой честный, дельный человек… Семенов, Чагин, Сигонин, – вспоминал Алексей Александрович». Наблюдая за своим героем, Толстой, конечно, сочувствовал ему, но между тем, кажется, был не в силах скрыть и своего иронического отношения к той среде, которая сама порождает жизненные драмы, наивно полагая при этом, что она ни за что не несет ответственности.
Эта государственная, по мысли Толстого, во всем искусственная среда не только «иссушала», делала формальными семейные отношения вовлеченных в нее людей. Она имела также оборотную сторону, готовую поставить под сомнение и саму святость брачного союза, на словах признаваемого священным и незыблемым.
Жизнь петербургского света, неотделимая от жизни правительственных кругов, предлагала человеку из высшего общества многочисленные соблазны. Здесь, конечно, следили за соблюдением внешних приличий. Тем не менее двусмысленные отношения мужчины и женщины, даже супружеская измена, если она не приводила к разводу и общественному скандалу, вовсе не считались преступлением среди завсегдатаев светских салонов, скорее, наоборот, украшали в их глазах неверных мужей и в особенности неверных жен. Так жила светская приятельница Анны, княгиня Бетси Тверская, многие другие довольные собой представительницы избранного круга.
Получалось, что «отвлеченная», «нечувственная» деятельность Алексея Александровича лишила семейную жизнь героини эмоциональной силы и полноты, а петербургский свет – изнанка этой формальной сферы бытия – обратил ее живые чувства в губительное, преступное русло. Ведь это свет в лице той же княгини Бетси (падение героини, разумеется, служило для нее лучшим самооправданием) всячески поощрял отношения Анны и Вронского, жадно следил за развитием этих отношений. Он не простил Анне только одного – силы и глубины ее увлечения, готовности открыто идти навстречу своей страсти. В этом смысле героиня, конечно, была честнее, искреннее окружающих ее фальшивых, вечно готовых к лицемерию светских людей. Но там, где она увидела выход из «эмоционального плена», в действительности открывалась дорога к полному душевному помрачению, окончательному жизненному тупику. При всем различии своего положения два Алексея – муж и любовник – играли по отношению к Анне в чем-то похожие роли. Первый из них невольно подготовил почву для будущей катастрофы, в то время как второй оказался ее непосредственным орудием. Все совершилось по законам нравственно опустошенного, перевернутого мира.
И все-таки выбор оставался за Анной. Семейная жизнь Карениных не была такой уж беспросветно выхолощенной. Подобно любым домашним отношениям, она соединила двух людей тысячами едва уловимых связей. То живое, чувствительное, что есть в каждом человеке, пусть заглушенное многолетней привычкой «отвлеченной» деятельности, все-таки обнаруживало себя в отношении Алексея Александровича к жене. Ведь по-своему он любил Анну. Высший промысел тяжело и непросто, вопреки условиям среды, сбывался и в этом браке. Сын Сережа – Божие благословение заключенного союза – стал его последним, безусловным оправданием. Именно взгляд сына на все происходящее с матерью (он не в состоянии был понять, кто такой Вронский, как следует ему относиться к этому дяде), дальнейшая судьба маленького Сережи представали в «Анне Карениной» как последняя мера совершенного героиней жизненного выбора. В Сереже находились ее опора, ее утешение, источник сил для дальнейшей жизни с неловким и сухим Алексеем Александровичем.
Среди нескольких семей, показанных в романе, только одна с первых же страниц выглядела откровенно неблагополучной. Собственно, знаменитая формула Толстого о счастливых и несчастливых семействах, такая существенная для всего произведения, как раз и возникла в связи с рассказом о поставленном на грань катастрофы доме Облонских. Ветреный брат Анны, Степан Аркадьич (как не увидеть тут некую генетическую, родовую «нравственную эластичность»?), не умел и, главное, не хотел оставаться верным жене, пустил на самотек хозяйственные дела, безоглядно проматывал уже не свое, а доставшееся ему от жены состояние. А все-таки несчастливая Долли была преданной, заботливой матерью, продолжала терпеливо и с любовью нести свой крест. Внутренний бунт против собственной судьбы (именно в связи с мыслями о поступке Анны) порой поднимался и у нее в душе. Но сила нравственного долга перед детьми, даже перед их безответственным отцом накрепко привязала ее к домашнему укладу.
Разумеется, хоть неверный, но веселый и полнокровный Стива был совсем не то что холодный Алексей Александрович. Да и вообще очень многое в жизни Анны и Долли складывалось по-разному. Только до конца посвятившая себя детям измученная Долли почему-то чувствовала себя порой по-настоящему спокойной и счастливой. Анна пусть вынужденно, но отказалась от Сережи – своей единственной надежды. Да и, осуществись ее желание, останься сын вместе с ней, какое место занял бы он рядом с увлеченными страстью Анной и Вронским?
Вопрос о будущей судьбе Сережи, тем более о судьбе девочки, которую Анна родила вне брака, хотя и выходил за пределы событий, описанных в романе, имел самое прямое отношение к той «мысли семейной», что постоянно находилась в поле зрения художника.
Произведение Толстого имело одну странную на первый взгляд особенность. Кроме членов патриархальной семьи Щербацких, никто из центральных персонажей «Анны Карениной» с детских лет не знал и, как правило, не мог любить семейные отношения. Про Алексея Вронского это говорилось прямо: «Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе». Видимо, эта невольная отчужденность от семейного начала, нравственное «нечувствие», когда преступник просто не понимает тяжести собственного поступка (Вронский без малейших сомнений соблазнял замужнюю женщину), как раз и стала причиной того, что писатель, всегда расположенный к действующим лицам «Анны Карениной», все-таки недолюбливал этого героя. Не случайно в описаниях графа Вронского настойчиво, десятки раз, упоминалась одна и та же самодовольная, даже хищная примета: его сплошные белые зубы. Не случайно и то, что писатель, показывая в последней части романа «выбитого из седла» самоубийством возлюбленной, уезжающего на войну Вронского-добровольца, «заставил» его мучиться жестокой зубной болью.
Но и другие персонажи, будь то Анна, Степан Аркадьич, Алексей Александрович Каренин, Варенька (эта «открытая душа», девушка, с которой Кити Щербацкая встретилась на водах за границей, играла в романе далеко не последнюю роль), тоже оказались обделены в детские годы семейным, домашним теплом. То же самое Константин и Николай Левины, третий из братьев, рожденный от другого отца Сергей Иванович Кознышев. Так возникала картина почти всеохватного сиротства, повального разрушения семейной традиции. Для героев исчезала сама возможность передачи опыта построения семьи. Сережа и маленькая дочь Анны становились уже вторым поколением, «отлученным» от домашнего очага.
Катастрофа семейного начала, во множестве лиц показанная на страницах «Анны Карениной», точно отразила «нравственный климат», установившийся в образованных кругах русского общества 1870-х годов. Обновленный реализм Толстого (даже если писатель находился порой во власти глубоко укоренившихся собственных философских воззрений) безошибочно «схватывал» земные, ощутимые проявления духовной угрозы, которая нависла над страной. Не только высший свет, не только правительственные сферы – вся «просвещенная» Россия выглядела тут зараженной губительным духом смуты. Та страшная мистическая сила, что поманила, закружила, повела навстречу гибели главную героиню романа, повсеместно пронизывала у Толстого жизненную атмосферу избранных сословий. Это дьявольское начало, где вопиюще открыто, а где подспудно, вкрадчиво, постоянно напоминало о себе. Не только Анна – все были его жертвами, и все увлекали друг друга, увлекали собственных детей ему навстречу. Возникал настоящий порочный круг.
Вероятно, такой взгляд на вещи выглядел излишне мрачным, в чем-то он уже предвещал поздние толстовские «обличения цивилизации». Одновременно с этой «замутившейся» страной существовала ведь и другая, праведная Россия. Те же придворные круги, та же правительственная среда знали немало цельных, духовно устойчивых натур. Тем не менее Толстой, может быть не всегда и не везде замечая светоносные лучи в русском предгрозовом пейзаже, правдиво и честно говорил о главном. Сам находясь на духовном распутье, еще не предлагая обществу никаких «рецептов исцеления», он показывал «из глубины» великую русскую беду наступающей эпохи: безбожие, кризис веры. Поэзия романа соединяла в себе пушкинскую гармонию и пушкинскую мировую тревогу.
Демоническое, смертельное начало обрело столь могучую власть над обществом и светом, над душами героев «Анны Карениной» именно вследствие ослабления, иссякания в избранной среде праведных начал национальной жизни. Среди персонажей романа, пожалуй, только семейство князя Щербацкого оставалось твердо воцерковленным. И спасительная рука Творца действительно вела домашних старого князя через все испытания опасного времени. Как тут не вспомнить «синхронно» прозвучавшее в доме Щербацких (они ожидали на следующий день объяснения Кити и Вронского), троекратно повторенное русское «Господи помилуй!». Это родители и дочь, находясь в разных комнатах, не сговариваясь, просили помощи у Спасителя. И помощь пришла, как часто бывает, не видная сразу. Начавшийся роман Анны и Вронского все поставил на свои места. Полученная девушкой душевная рана по прошествии времени оказалась целебной, помогла избавиться от увлечения светом, подготовила ее будущий счастливый брак с Константином Левиным…
Но то Щербацкие. В остальных случаях открывалась картина самая удручающая. Откровенными нигилистами среди лиц, показанных в романе, были, пожалуй, только смолоду мятущийся Николай Левин, да еще гениальный художник Михайлов, который в Италии по просьбе Вронского написал «западающий» в душу всем, кто бы его ни увидел, портрет Анны (этот персонаж отдельными чертами напоминал «изученного» Толстым осенью 1873 года художника И. Н. Крамского). Честный Константин Левин до последней части романа тоже признавался себе и другим, что он ни во что не верит. Остальные представители образованной среды (и это было еще страшнее) либо верили «напоказ», оставаясь в глубине души полнейшими безбожниками, как легкомысленный Стива Облонский, либо искренне, как Алексей Александрович, почитали себя христианами, утратив память о самом духе отеческой веры. Иные из них, подобно графине Лидии Ивановне – светской знакомой Анны и ее мужа, были увлечены всевозможными религиозными суррогатами, иные (яркая примета времени!) занимались «вызыванием духов» – столоверчением, которое всегда подвергалось осуждению Церкви. При первом своем появлении в романе Вронский как раз и предлагал собравшимся в доме Щербацких устроить забавы ради такой вот спиритический сеанс.
Добрые, живые люди, увиденные в свете неосуждающей, «божественной» поэзии, часто, слишком часто находились вне Источника жизни и добра. Кто-то из них просто не замечал посылаемых Свыше возможностей опомниться (так это было со Степаном Аркадьичем), кто-то переживал моменты прозрения, но всем заведенным ходом вещей снова увлекался на ложные пути. Жизненный строй, послушный темному мировому началу, не отпускал человека так легко.
«Каренинский» сюжет однажды «взлетал» в романе на огромную высоту, откуда особенно ясно были видны суть и смысл всего происходящего с героями. После рождения в доме Карениных незаконного ребенка Анна заболела и находилась при смерти. Именно тогда потрясенный, измученный Алексей Александрович вдруг явил себя таким, каким никто не ожидал его увидеть. Пережитые страдания очистили, освободили в нем совсем другого человека. Все лучшее, что прежде скрывалось под сухой служебной оболочкой, что невозможно было даже предположить в этом живущем по регламенту государственном деятеле, вдруг вырвалось наружу. Обманутый муж простил Анну, принял, как своего, чужого ребенка, у постели умирающей жены примирился со своим обидчиком Вронским (тогда-то Вронский, прийдя домой, и попытался свести счеты с жизнью).
Этот испытанный Карениным внутренний переворот может показаться на страницах произведения даже несколько искусственным, надуманным. На самом деле Толстой знал, о чем писал. Каренин пережил христианское прозрение именно так, как может и должен его переживать человек принципа: решительно и сразу. Тут намечался действительный выход из мучительных, даже не с появлением Вронского, а много раньше, запутанных отношений. Праведный порыв Алексея Александровича (так же, как зло умножает зло, добро имеет бесконечную способность воздействовать на мир) не оставил равнодушной выздоравливающую Анну, да и Вронский, оправившись после неудачной попытки самоубийства, кажется, решил искать избавления от своей страсти, собрался ехать в Ташкент, куда давно звал его генерал Серпуховской.
Увы, никому из участников разыгравшейся драмы не дано было исцелиться. Навестивший Карениных симпатичный, обаятельный Стива, сам не ведая, что творит, сперва «как человек передовых воззрений» без труда убедил сестру окончательно оставить мужа, а потом доказал на все готовому в то время Алексею Александровичу необходимость отпустить жену навстречу ее «свободному чувству». Оставшись один, жестоко осмеянный светом, с пошатнувшимся служебным положением Каренин утешился в обществе графини Лидии Ивановны, погрузившись, как и она, в мистическое учение проповедника и «ясновидящего» шарлатана Ландо. Тот сухой, жестокий человек, каким Алексей Александрович являлся в конце романа, и близко не напоминал Каренина в период его духовного просветления.
Образ языческого Рима, который безумно сжигает себя в диких удовольствиях и суеверных культах, неоднократно и по разному поводу возникал на страницах «Анны Карениной». Даже милый князь Щербацкий, однажды повстречав новичка Константина Левина в московском дворянском клубе, задал своему зятю шутливый, но не лишенный смысла вопрос: «Ну, что? Как тебе нравится наш храм праздности?» Но особенно часто аналогия с погибающим Римом возникала в картине убийственно опасных офицерских скачек, собравших весь цвет петербургского общества. Начиная с имени «Гладиатор», которое носил конь офицера Махотина, главного соперника Вронского, и кончая кем-то сказанной фразой: «Недостает только цирка со львами», – все в этой захватывающей дух картине приводило на память смертельно больную древнюю цивилизацию.
Мир, о котором говорил Толстой, принадлежал иному времени, иной стране. Здесь каждому с молодых лет был открыт некогда воссиявший в римских катакомбах, державно утвержденный на руинах языческих капищ святым императором Константином истинный путь спасения. Но среда, показанная в романе, все дальше уклонялась от этого данного Христом, ставшего на века судьбой русского народа праведного пути. Ни Анна, ни Вронский в их беде ни разу не вспомнили о покаянии, точно так же, как забыли о нем (хоть, возможно, и бывая периодически на исповеди) все или почти все люди одного с ними круга.
Помнил ли о нем сам создатель «Анны Карениной» или все-таки под этой утраченной святыней он имел в виду свою «естественную веру», ту, что несколько лет спустя он дерзко назовет христианской? Как бы там ни было, свободный художник – Толстой середины 1870-х годов умел сказать много больше того, что вынашивал долгие годы, с чем не мог решительно расстаться и теперь Толстой-философ. На страницах «Анны Карениной» великий поэт действительно во всем превосходил парадоксального религиозного мыслителя.
* * *
Первые читатели «Анны Карениной», критики, писавшие о произведении, нередко бывали озадачены новым и очень своеобразным его построением. Неповторимый облик толстовского шедевра, как некогда это происходило с «Евгением Онегиным» Пушкина, «Мертвыми душами» Гоголя, «Героем нашего времени» Лермонтова, трудно укладывался в сознании современников. Про «Анну Каренину» часто говорили: «Два романа в одном романе», – ив этих словах отчетливо слышался упрек писателю за «странность» его книги.
Сам Толстой не принимал подобных упреков. Напротив, он считал композицию «Анны Карениной» своей большой авторской удачей, гордился архитектурной стройностью только что законченного труда. Второй, «левинский», сюжет «участвовал» в общем развитии свободного романа так же необходимо, как и его «несущая» «каренинская» линия. История Константина Левина, возможно, вопреки первоначальным намерениям Толстого, не только составила могучий контраст повествованию о домашнем (и национальном, общественном) русском разладе, но постепенно стала важнейшим элементом «катастрофической» проблематики романа. Более того, роман не пришел к завершению со смертью его главной героини. В последней, восьмой, его части теперь уже благополучный Левин оказался единственной фигурой по-своему эпохальной, поставленной перед необходимостью духовного выбора.
Что этот герой, больше похожий на бурлака, чем на помещика, займет среди персонажей «Анны Карениной» совершенно особое место, становилось очевидно уже при первом его появлении в романе. Левин принадлежал по рождению к той же самой привилегированной русской среде, которую описывал художник. У него было общее с ней прошлое: Московский университет. Но Левин – действующее лицо произведения – определенно «выпадал» из того избранного круга, где прошли его детство и юность, куда и теперь в силу своего общественного положения он вынужден был порой возвращаться.
Его жизненный путь (и это становилось все более заметным по мере того, как «разгорался», набирал силу «каренинский» сюжет романа, возникали новые и новые картины русского духовного хаоса) выглядел у Толстого действительной, а не ложной, как то происходило в случае с Анной, попыткой разорвать порочную связь явлений, найти в этом мире твердую почву под ногами.
В духе своей среды человек неверующий, Левин тем не менее бессознательно устранялся от участия в делах и развлечениях образованного общества, внутренне отторгал его. Этот занятый хозяйством «сельский житель» (с точки зрения многих своих знакомых просто «дикий помещик»), изредка навещая Первопрестольную, что бы ни происходило с ним, решительно «выламывался» из окружения: заходил ли спор по философским, социальным, экономическим вопросам, приходилось ли ему просто обедать со своим приятелем Стивой в одном из лучших ресторанов города… Он был другой: «чудак», нарушитель общепризнанных правил, наивный, как ребенок, возмутитель спокойствия.
Но почему именно Левин, тем более что он атеист, оказался способен на такое внутреннее неприятие духовно пошатнувшегося мира? И всегда ли был он прав в этом своем отторжении? Разумеется, в жизни, особенно русской, можно встретить людей, наделенных исключительным даром нравственной отзывчивости, чувствительных к любым проявлениям добра и зла (другое дело, что без руководства Церкви, вне традиции этот дар может увести человека сколь угодно далеко от своего Источника). Здесь писатель по-прежнему оставался тонким реалистом. Левин действительно представлял собой очень яркий национальный характер. Более того его духовная неуспокоенность, подобно тому как это происходило с «чувственными» Анной и Стивой, тоже представала в романе по-своему генетической. Известный дикими выходками брат Левина, Николай, безусловно, был одной крови с Константином. Только у резкого Николая все обернулось губительными крайностями, а Константин оказался наделен теплой, расположенной к людям душой.
Исключительное положение, занятое на страницах произведения этим героем, имело между тем еще одну и, конечно, главную причину. Левин оказался образом во многих отношениях автобиографическим. Еще современники обратили внимание на то, что, в общем, нетипичная для русского дворянина фамилия героя, скорее всего, является производной от имени автора произведения. Их догадка была не так уж далека от истины. Разумеется, Левин – не писатель Толстой. Но очень многие стороны биографии художника так или иначе «прозвучали» в этом художественном образе. Ведь и сам Толстой годами жил в Ясной Поляне, увлеченно занимался хозяйством… В истории женитьбы Левина и его жизни после свадьбы отдельные штрихи тоже походили на те обстоятельства, при которых состоялся брак Толстого и его жены Софьи Андреевны. Да и как было рассказать об этой таинственной области человеческого бытия, не вспоминая первые совместные радости и огорчения?
Еще более значительным для создания «левинского сюжета» оказалось внутреннее сходство между автором и его героем. Левин стал далеко не первым и не последним среди персонажей Толстого, духовно близких писателю. На страницах его романов и повестей часто присутствовали один или несколько таких «толстовских героев», и они, как правило, испытывали на прочность, постигали, утверждали всем ходом своей жизни философские воззрения художника.
Вероятно, того же хотел Толстой и в случае с Константином Левиным. И действительно Левин нередко смотрел на вещи прямо по-толстовски. Интуитивно отворачиваясь от пороков своего сословия, он решительно причислял к этим порокам все оформленное, цивилизованное, выходящее за пределы естественного чувства. Но в отличие от многих других «авторских персонажей» писателя, он все-таки был ограничен на страницах «большого» романа в собственном постижении мира. Левинские «истины» никак не могли называться в «Анне Карениной» последними, окончательными. Толстой, несомненно, «говорил из Левина», но одновременно он и рассматривал в Левине самого себя, подчиненного иным, более сложным и богатым, чем его собственная философия, мировым законам.
Поэзия свободного романа делала свое дело. Мы любим Николеньку Иртеньева из ранней трилогии писателя «Детство. Отрочество. Юность», любим Дмитрия Нехлюдова, проходящего, изменяясь со временем, через все творчество Толстого, любим Дмитрия Оленина из повести «Казаки» и тем более любим Андрея Болконского и Пьера Безухова – благородных, искренних персонажей «Войны и мира». Но Константин Левин мил нашему сердцу как-то по-особому. В нем нет ничего утвердительного, заранее предрешенного. Сам Толстой отразился в этом образе с неожиданно теплой, трогательной, домашней стороны. Здесь мы находим все самое лучшее, что покоряло в этом «башибузуке», что не давало расстаться с ним даже в трудные годы его «религиозного диктаторства» глубоко верующей двоюродной тетке писателя, его многолетнему другу и корреспонденту фрейлине А. А. Толстой, что знали связанные с ним повседневными узами семейной жизни родные и близкие люди.
Константин Левин и созидательное семейное начало действительно были неразделимы в романе. Практическая деятельность Левина, круг его интересов (именно в связи с этим героем, пожалуй, особенно ярко обнаруживал себя универсальный, «энциклопедический» склад произведения) выглядели у Толстого очень обширными. Левин, то приходя в отчаяние от невозможности одолеть вековое безразличие крестьянина (теперь уже не крепостного мужика, а наемного работника) к чужому, «барскому» хозяйству, то утешаясь обильными плодами своих трудов, горячо, упорно занимался земледелием и скотоводством. Эта область его жизни изображалась Толстым, на удивление, тепло и человечно. Должно быть, оттого она и сохранила для читателя, в том числе современного, столь захватывающий интерес (чего стоит один только согревающий душу рассказ про отелившуюся любимицу героя, племенную корову по имени Пава!). Левин, опять же подходя к делу со своей чувствительной точки зрения, увлеченно писал экономический трактат. Самые разные стороны действительности, только под углом наивно-почвенных воззрений, глубоко и серьезно занимали этого героя. Но в центре всего находилась его постоянная мысль о собственном доме, о семье.
Обостренное нравственное чувство не только уводило Левина от заведенного в избранном обществе «самоубийственного» порядка вещей. Оно указало ему также спасительную почву, на которой было возможно восстановление распавшегося мира: глубинно отвергаемую этим обществом семейную жизнь. Левин и появлялся впервые в романе, приезжая в Москву из дорогой его сердцу сельской глуши с одним единственным намерением: просить руки давно им любимой княжны Кити Щербацкой.
Неясная память о годах самого первого детства, о распавшейся когда-то семейной гармонии заставляла героя искать традиционные, поверенные дедами и отцами жизненные пути. Отношение Левина к его избраннице – взволнованное, трепетное – соединило многолетние мечты героя о лучшем, устойчивом мире и вековые моральные ценности русского народа. Оно было чистым и целомудренным. «Любовь к женщине, – говорил о Левине Толстой, – он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье».
Вмешательство грубой, демонической силы первоначально разрушило планы героя в отношении Кити. Увлеченная Вронским, она, все-таки сознавая в душе всю губительность своего поступка, отказала Левину. Да и, пожалуй, эта девушка, потерявшая себя в светской суете, в то время была ему не пара. Требовалось время для того, чтобы подготовить их союз. «Браки совершаются на Небесах» – эта истина непреложно заявляла о себе в «романе широкого дыхания».
История женитьбы Левина – новое, по прошествии времени, объяснение с Кити, сватовство, венчание – предстала на страницах «Анны Карениной» как ослепительный полюс света, тем более что все совершалось параллельно другому – мрачному, гнетущему (и чем дальше, тем больше) – «каренинскому» сюжету. «Какой чудесный и яркий контраст нечистой страсти и чистых чувств!» – говорил по этому поводу H. Н. Страхов. Казалось бы, художник рассказывал о вещах самых обыкновенных. Но тут происходило нечто действительно чудесное, невиданное ни до, ни после Толстого в мировом искусстве. Встреча Левина и Кити после долгой разлуки, Левин зимней бессонной ночью у открытого окна и утром на московских улицах перед походом в дом Щербацких с последним решительным предложением, волнения в доме невесты, Левин и Кити в храме идут вокруг аналоя. Трепет, сияние, воздух наполняли собой каждое из этих описаний. Земная человеческая жизнь вся была пронизана в них неземным божественным присутствием.