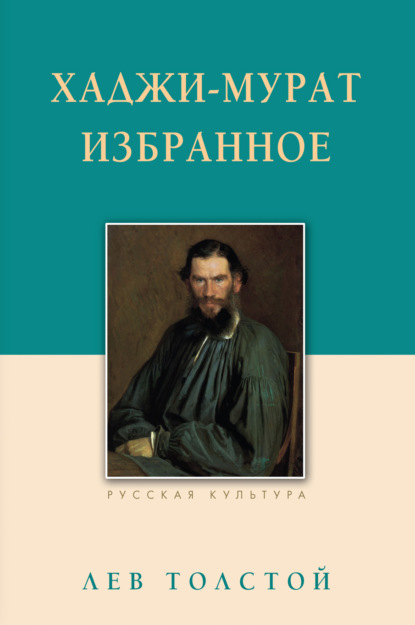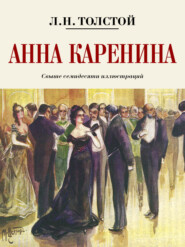По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хаджи-Мурат. Избранное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.
– Потому что эта сумка гвардейского полка; у него императорский орел.
– Вы из гвардии?
– Нет, извините, сударь, из шестого линейного.
– Это где купили? (франц.)
Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.
– Табак бун, – говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.
– Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous tabac russe? bon?[58 - Да, хороший табак, турецкий табак, – а у вас русский табак? хороший? (франц.)]
– Рус бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – Франсе нет бун, бонжур, мусье, – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.
– Ils ne sont pas jolis ces b?tes de russes[59 - Они некрасивы, эти русские скоты (франц.).], – говорит один зуав из толпы французов.
– De quoi de ce qu’ils rient donc?[60 - Чего это они смеются? (франц.)] – говорит другой, черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.
– Кафтан бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.
– Ne sortez pas de la ligne, а` vos places, sacre? nom…[61 - Не выходите за линию, по местам, черт возьми… (франц.)] – кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.
А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j’ai beaucoup connu, monsieur[62 - графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь (франц.).], – говорит французский офицер с одним эполетом, – c’est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons[63 - это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим (франц.).].
– Il y a un Sazonoff que j’ai connu, – говорит кавалерист, – mais il n’est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre ?ge а peu pres.
– Cest fa, monsieur, c’est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour[64 - – Я знал одного Сазонова, – говорит кавалерист, – но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста.– Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. Капитан Латур (франц.).], – говорит он, кланяясь.
– N’est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? ?a chauffait cette nuit, n’est-ce pas?[65 - Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не правда ли? (франц.)] – говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.
– Oh, monsieur, c’est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! Cest un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.
– Il faut avouer que les vatres ne se mouchent pas du pied non plus[66 - – О! это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие – драться с такими молодцами!– Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются (франц.).], – говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.
Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.
Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед Тем, Кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? – Белые флаги спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.
Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.
Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.
Ни Калугин с своей блестящей храбростью – bravoure de gentilhomme[67 - храбростью дворянина (франц.).] – и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест, ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.
Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.
Севастополь в августе 1855 года
Глава I
В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой[68 - Последняя станция к Севастополю (прим. Л.Н. Толстого).] и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).
В повозке, спереди, на корточках сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых солдатской шинелью, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напружены. Так называемой талии – перехвата в середине туловища – у него не было, но и живота тоже не было, напротив, он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, если бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкою, частою и черною двухдневною бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, – но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардирование идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозка должна была остановиться в густом, неподвижном облаке пыли, поднятом обозом, и офицер, щурясь и морщась от пыли, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.
– А это с нашей роты солдатик слабый, – сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.
На повозке, спереди, сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочала мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотясь руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.
– Должников! – крикнул он.
– Я-о, – отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.
– Когда ты ранен, братец?
Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.
– Здравия желаем, вашбородие! – тем же отрывистым басом крикнул он.
– Где нынче полк стоит?
– В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!
– Куда?
– Неизвестно… должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие, – прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, – уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда-ажно…
Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат, но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.
Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата мелкими дарами: он хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивою энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.
– Как же! Очень буду слушать, что Москва[69 - Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата Москва или еще присяга (прим. Л.Н. Толстого).] болтает! – пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. – Смешная эта Москва… Пошел, Николаев! Трогай же… Что ты заснул! – прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.
Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозка покатилась рысью.
– Только покормим минутку и сейчас, нынче вечером, дальше, – сказал офицер.
Глава II
Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванки, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедших в Севастополь и столпившихся на дороге.
Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.
– Далече идете, землячок? – сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.
– В роту идем из губернии, – отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. – Мы вот, почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывают, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?
– Потому что эта сумка гвардейского полка; у него императорский орел.
– Вы из гвардии?
– Нет, извините, сударь, из шестого линейного.
– Это где купили? (франц.)
Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.
– Табак бун, – говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.
– Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous tabac russe? bon?[58 - Да, хороший табак, турецкий табак, – а у вас русский табак? хороший? (франц.)]
– Рус бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – Франсе нет бун, бонжур, мусье, – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.
– Ils ne sont pas jolis ces b?tes de russes[59 - Они некрасивы, эти русские скоты (франц.).], – говорит один зуав из толпы французов.
– De quoi de ce qu’ils rient donc?[60 - Чего это они смеются? (франц.)] – говорит другой, черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.
– Кафтан бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.
– Ne sortez pas de la ligne, а` vos places, sacre? nom…[61 - Не выходите за линию, по местам, черт возьми… (франц.)] – кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.
А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j’ai beaucoup connu, monsieur[62 - графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь (франц.).], – говорит французский офицер с одним эполетом, – c’est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons[63 - это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим (франц.).].
– Il y a un Sazonoff que j’ai connu, – говорит кавалерист, – mais il n’est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre ?ge а peu pres.
– Cest fa, monsieur, c’est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour[64 - – Я знал одного Сазонова, – говорит кавалерист, – но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста.– Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. Капитан Латур (франц.).], – говорит он, кланяясь.
– N’est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? ?a chauffait cette nuit, n’est-ce pas?[65 - Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не правда ли? (франц.)] – говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.
– Oh, monsieur, c’est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! Cest un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.
– Il faut avouer que les vatres ne se mouchent pas du pied non plus[66 - – О! это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие – драться с такими молодцами!– Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются (франц.).], – говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.
Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.
Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед Тем, Кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? – Белые флаги спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.
Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.
Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.
Ни Калугин с своей блестящей храбростью – bravoure de gentilhomme[67 - храбростью дворянина (франц.).] – и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест, ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.
Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.
Севастополь в августе 1855 года
Глава I
В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой[68 - Последняя станция к Севастополю (прим. Л.Н. Толстого).] и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).
В повозке, спереди, на корточках сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых солдатской шинелью, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напружены. Так называемой талии – перехвата в середине туловища – у него не было, но и живота тоже не было, напротив, он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, если бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкою, частою и черною двухдневною бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, – но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардирование идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозка должна была остановиться в густом, неподвижном облаке пыли, поднятом обозом, и офицер, щурясь и морщась от пыли, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.
– А это с нашей роты солдатик слабый, – сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.
На повозке, спереди, сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочала мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотясь руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.
– Должников! – крикнул он.
– Я-о, – отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.
– Когда ты ранен, братец?
Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.
– Здравия желаем, вашбородие! – тем же отрывистым басом крикнул он.
– Где нынче полк стоит?
– В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!
– Куда?
– Неизвестно… должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие, – прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, – уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда-ажно…
Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат, но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.
Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата мелкими дарами: он хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивою энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.
– Как же! Очень буду слушать, что Москва[69 - Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата Москва или еще присяга (прим. Л.Н. Толстого).] болтает! – пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. – Смешная эта Москва… Пошел, Николаев! Трогай же… Что ты заснул! – прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.
Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозка покатилась рысью.
– Только покормим минутку и сейчас, нынче вечером, дальше, – сказал офицер.
Глава II
Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванки, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедших в Севастополь и столпившихся на дороге.
Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.
– Далече идете, землячок? – сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.
– В роту идем из губернии, – отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. – Мы вот, почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывают, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?