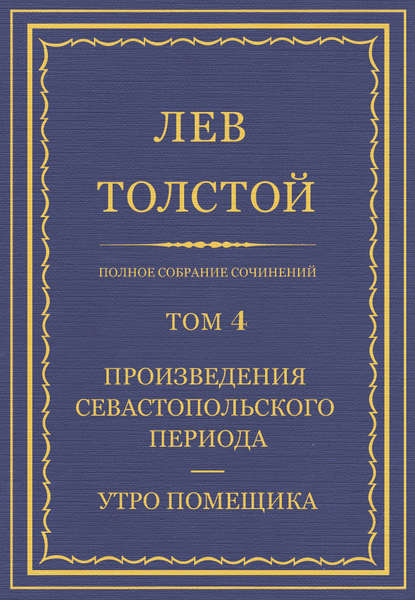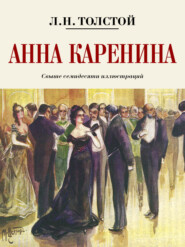По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Полное собрание сочинений. Том 4. Произведения Севастопольского периода. Утро помещика
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Верно, они недавно здесь? – спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.
– Только что приехал.
Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.
– Боже мой, Боже мой! когда это всё кончится! – сказала она с отчаянием в голосе.
Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами.
– Ну что, как вам? – спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых, Володя заметил, было золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку. – Вот ваши товарищи пришли вас проведать.
– Разумеется, больно, – сердито сказал он. – Оставьте! мне хорошо, – и пальцы в чулке зашевелились еще быстрее. – Здравствуйте! Как вас зовут, извините, – сказал он, обращаясь к Козельцову. – Ах, да, виноват, тут всё забудешь, – сказал он, когда тот сказал ему свою фамилию. – Ведь мы с тобой вместе жили, – прибавил он, без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.
– Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.
– Гм! А я-то вот и полный выслужил, – сказал он морщась. – Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее.
Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками.
– Его надо оставить, – сказала шопотом сестра, со слезами на глазах: – уж он очень плох.
Братья еще на Северной решили итти вместе на 5 бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности и итти каждому порознь.
– Только как ты найдешь, Володя, – сказал старший, – впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.
Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.
12.
Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была совсем пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне около адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидал посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время как он был в опасности. «Убьют, буду мучиться, страдать, и никто не заплачет!» И всё это вместо исполненной энергии и сочувствия героической жизни, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе, Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через Малый Корабельный мост, он увидал, как что-то, свистя, влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда.
– Вишь, не задохлась! – сказал Николаев.
– Да, – ответил он, невольно и неожиданно для себя каким-то тоненьким, тоненьким пискливым голоском.
Встречались носилки с ранеными, опять полковые повозки с турами; какой-то полк встретился на Корабельной; верховые проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он ехал рысью, но увидав Володю, приостановил лошадь около него, вгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Один, один! всем всё равно, есть ли я, или нет меня на свете», подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.
Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная, растерзанная женщина, выходя из калитки с матросом, наткнулась на него.
– Потому, коли бы он был блаародный чуаек, – пробормотала она, – пардон, ваш благородие офицер!
Сердце всё больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом.
– Вот всё торопились из губернии ехать. Ехать да ехать. Есть куда торопиться! Которые умные господа, так чуть мало-мальски ранены, живут себе в ошпитале. Так-то хорошо, что лучше не надо.
– Да что ж, коли брат уж здоров теперь, – отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогнать чувство, овладевшее им.
– Здоров! Какое его здоровье, когда он вовсе болен! Которые и настоящие здоровые-то, и те, которые умные есть, живут в ошпитале в этакое время. Что тут-то радости много, что ли? Либо руку оторвет – вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городу, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь – молитвы все перечитаешь. Ишь, бестия, так мимо тебя и дзанкнет! – прибавил он, обращая внимание на звук близко прожужжавшего осколка. – Вот теперича, – продолжал Николаев: – велел ваше благородие проводить. Наше дело известно: что приказано, то должен сполнять; а ведь главное повозку так на какого-то солдатишку бросили, и узел развязан. Иди да иди; а что из имения пропадет, Николаев отвечай.
Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал.
– Вон антилерия ваша стоит, ваше благородие! – сказал он вдруг. – У часового спросите: он вам покажет. – И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева.
Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности – перед смертью, как ему казалось, – ужасно тяжелым, холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посереди площади, оглянулся, не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус. Неужели за отечество, за царя, за которого я с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!» И Володя с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе спросил у часового дом батарейного командира и подошел к нему.
13.
Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой 2-х этажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким ковриком около нее.
Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами – фельдфебель – в тесаке и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет 40, штаб-офицер с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шинели.
– Честь имею явиться, прикомандированный в 5-ю легкую, прапорщик Козельцов 2-й, – проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.
Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться.
Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки, а батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то.
Батарейный командир был довольно толстый человечек, с большою плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими, приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый.
– Да, – сказал он, останавливаясь против фельдфебеля, – ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?
– Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь всё подешевле овес стал, – отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые очевидно любили жестом помогать разговору. – А еще фуражир наш Франщук вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить – говорят, дешевы, – так как изволите приказать?
– Что ж, купить: ведь у него деньги есть. – И батарейный командир снова стал ходить, по комнате. – А где ваши вещи? – спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него.
Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник его тайну и подтрунивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской, и что завтра брат обещал их доставить ему.
Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил:
– Где бы нам поместить прапорщика?
– Прапорщика-с? – сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым, брошенным на него взглядом, выражавшим как будто вопрос: «ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?» – Да вот-с внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие, – продолжал он, подумав немного: – теперь штабс-капитан на баксионе, так ихняя койка пустая остается.
– Так вот, не угодно ли-с покамест? – сказал батарейный командир. – Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.
Володя встал и поклонился.
– Не угодно ли чаю? – сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к двери. – Можно самовар поставить.
Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его вниз и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.
Володя принял его было за солдата.
– Петр Николаич! – сказал денщик, толкая за плечо спящего. – Тут прапорщик лягут… Это наш юнкер, – прибавил он, обращаясь к прапорщику.
– Ах, не беспокойтесь пожалуйста! – сказал Володя; но юнкер, высокий, плотный, молодой мужчина, с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.
– Ничего, я на дворе лягу, – пробормотал он.