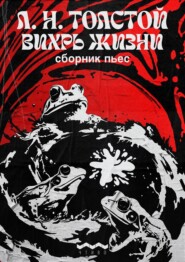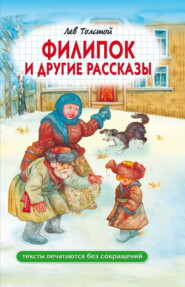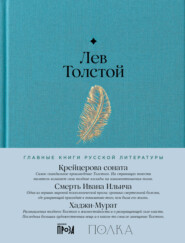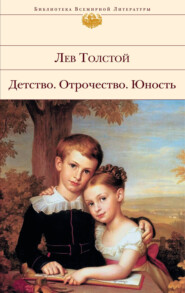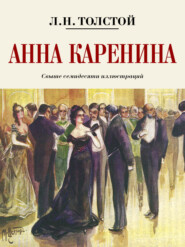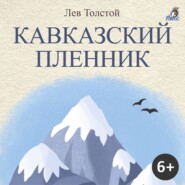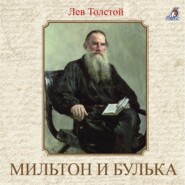По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 26. Произведения 1885–1889 гг.
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Знакомство с делом Колоскова и встреча с ним в течение нескольких лет не нашли себе никакого отражения в писаниях Толстого. Замысел драмы на сюжет, в основу которого легло это дело, возник, видимо, не ранее 1886 г. Первое свидетельство о намерении художественно оформить этот бытовой факт, быть может и не в драматической форме, находим в записи сюжетов, сохранившейся на отдельном недатированном листке, хранящемся в АТБ (папка XXXI). Здесь, в числе десяти сюжетов (комедия «Спириты» (будущие «Плоды просвещения»), «Фальшивый купон» и др.) отмечен сюжет, озаглавленный «Месть над ребенком». Полагаем, что за этим заглавием скрывается будущая «Власть тьмы», в которой Анисья, заставляя Никиту убить его ребенка, рассчитывает избавиться от присутствия в доме Акулины, выдав ее замуж, и одновременно отомстить Никите (Ср. слова Анисьи в XII явлении четвертого действия). «Ему и задушить велю отродье свое поганое. Измучалась я одна, Петровы кости-то дергаючи. Пускай и он узнает. Не пожалею себя; сказала, не пожалею». Однако мотив мести не является в драме основным или преобладающим, каким он представлялся Толстому первоначально, судя по тому, как замысел был озаглавлен.
У нас нет данных для точной датировки указанного листка с записями сюжетов. Косвенные же соображения, основанные на учете записей в нем других сюжетов, заставляют отнести его к 1886 г., без более точного хронологического приурочения.
В августе 1886 г. Толстой, ударившись ногой о грядку телеги, в то время как он нагружал в нее сено, сильно ушибся и около трех месяцев пролежал в постели с рожистым воспалением, грозившим осложниться заражением крови. Во время болезни и вынужденного бездействия он и написал «Власть тьмы».
Есть все основания думать, что толчком для работы над «Властью тьмы» послужило письмо директора московского народного театра «Скоморох» М. В. Лентовского. 31 августа 1886 г. он писал Толстому: «Без посторонней помощи, сам собственными неимоверными усилиями я начал строить театр общедоступных и народных представлений. Не ради заискиванья, не ради каких-либо корыстных целей, а из какого-то мне самому непонятного чувства, влекущего меня к Вам, я спешу Вас первого известить о предстоящем деле. Веря в Вашу многолюбивую душу, я прошу Вашей нравственной поддержки для моего измученного сердца». В post-scriptum добавлено: «Я истомился, повторяю, я нуждаюсь в поддержке, в освежении моей затурканной, моей больной головы» (АТБ).
Так как с самого начала работы над пьесой Толстой предназначал ее для постановки на сцене народного театра, то и следует полагать, что работа его над пьесой была вызвана желанием пойти навстречу просьбе Лентовского. Что Толстой пьесу обещал в первую очередь именно Лентовскому, явствует из письма последнего к Толстому от 17 февраля 1887 г.: «В виду дошедших до меня слухов, что Ваше последнее драматическое произведение «Власть тьмы» будет разрешено к представлению, я позволю себе просить Вас об уведомлении меня об этом, так как к постановке Вашей драмы на сцене «Скоморох» на Святой неделе, как Вы того желали и как мы на том согласились, я желал бы приступить заблаговременно, в течение великого поста, и теперь же приступить к разучиванию пьесы и подготовке ее обстановочной части» (АТБ).
Однако еще 19 октября 1886 г. Толстой писал H. Н. Страхову: «Теперь всё еще примериваюсь к работе и всё еще не могу сказать, чтобы напал на такую, какую мне нужно для спокойствия, такую, чтобы поглотила меня всего. Если нужно, то Бог даст» (ИРЛИ).
Около 20 октября 1886 г. в Ясную поляну приехал приятель Толстого А. А. Стахович, театрал, поклонник Островского и очень хороший чтец. Он читал Толстому Островского и Гоголя. Когда через три недели Стахович вновь приехал в Ясную поляну, Толстой, по словам Стаховича, сказал ему: «Как я рад, что вы приехали. Вашим чтением вы расшевелили меня. После вас я написал драму… Или я давно ничего не писал для театра, или, действительно, вышло чудо, чудо!»[539 - А. Стахович, «Клочки воспоминаний («Власть тьмы», драма Л. Н. Толстого)», ТЕ, 1912, стр. 27.] Таким образом можно думать, что мастерское чтение Стаховичем особенно, вероятно, драмы Островского «Не так живи, как хочется», наиболее любимой Толстым и кое в чем сходной с «Властью тьмы», побудило Толстого не откладывая приняться за работу над пьесой. Может быть, непосредственно вслед за чтением Стаховича был набросан план драмы (см. выше, стр. 538—539), кстати сказать, написанный ночью[540 - Д. Маковицкий, «Яснополянские записки. 1904—1910 годы». Редактировал Н. Н. Гусев. Выпуск второй. М. 1923, стр. 43.] (Толстой обычно работал по утрам). В этом плане сразу же были намечены важнейшие эпизоды пьесы и характеры действующих лиц, и притом в основном так, как они сложились и в окончательной редакции «Власти тьмы». Здесь однако еще отсутствует фигура Митрича и несколько второстепенных фигур, в том числе сестры Петра Марфы, кумы-соседки и др., ничего не сказано о покушении Власа на самоубийство, и в пятом действии намечен один эпизод, не разработанный Толстым ни в одной редакции пьесы: «Аниска, ударяет ее». Видимо, эти слова указывают на первоначальное намерение развить в пьесе эпизод покушения на убийство Ефремом Колосковым своей дочери Евфимьи. Дурковатость Акулины не подчеркивается, и она характеризуется как грубое животное, чувственное и гордое. Имена некоторых действующих лиц иные, чем в окончательной редакции.
В записи своего дневника от 25 октября С. А. Толстая отмечает: «Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта», а 26 октября она там же записывает: «Левочка написал 1-е действие драмы. Я буду переписывать».[541 - «Дневник Софьи Андреевны Толстой 1860—1891», изд. Сабашниковых. М. 1928, стр. 131—134. В отрывке из своих воспоминаний «Моя жизнь», напечатанном в ТЕ, 1912, стр. 17, написание 1-го действия драмы С. А. Толстой датируется 20-м октября.] На следующий день, 27 октября, она записывает: «Переписала 1-е действие новой драмы Левочки. Очень хорошо. Характеры очерчены удивительно, и завязка полная и интересная. Что-то дальше будет».[542 - «Дневники С. А. Толстой», стр. 135.] 30 октября там же записано: «Написано еще 2-е действие драмы. Встала рано и переписала. Вечером переписала вторично. Хорошо, но слишком ровно: нужно бы было больше театрального эффекта, что я и сказала Левочке».[543 - Там же, стр. 135.]
Вскоре после этого С. А. Толстая уехала в Ялту к своей умирающей матери, и ее записи в дневниках были прерваны до марта 1887 г.
4 ноября Толстой, имея в виду работу над драмой, писал Н. Н. Ге: «Начал художественную работу, которая очень меня занимает».[544 - «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге», Переписка, изд. «Academia», М.—Л. 1930, стр. 83.] Но когда в первых числах ноября А. А. Стахович, приблизительно через три недели после предшествующего посещения Толстого, вновь приехал в Ясную поляну, вся драма начерно была уже готова, и он вместе с другими принял участие в ее переписке (см. рукопись, описанную под № 15).[545 - ТЕ, 1912, стр. 27—28. См. об этом и письмо Толстого к жене от начала ноября 1887 г. «Письма графа Л. Н. Толстого к жене 1862—1910 г.», изд. 2, М. 1915, стр. 302.] На следующий день драма была переписана, и по просьбе Толстого Стахович прочел ее собравшимся в количестве около сорока человек яснополянским крестьянам. Пятый акт был прочтен самим Толстым. Крестьянами драма не была понята и не произвела на них того впечатления, на которое рассчитывал автор.
14 ноября Толстой писал H. Н. Страхову: «Я живу очень хорошо, радостно – пишу. Написал пьесу для народных театров» (ИРЛИ). В тот же день он пишет В. Г. Черткову: «Чем я занят? – Написал драму на прелюбодеяние. Кажется хорошо».[546 - Том 85 настоящего издания, стр. 410—411.]
Во второй половине ноября Толстой с семьей переехал в Москву, и драма была отдана в печать и в цензуру. 26 ноября С. А. Толстая пишет своей сестре Т. А. Кузминской: «Левочка здоров, гуляет, работает, т. е. пишет; отдал в набор свою драму (издание «Посредника») и в цензуру. Надеемся, что пропустят, и будем ее ставить на народный театр. Это его займет, и я рада» (Архив Т. А. Кузминской в ГТМ).
К этому времени было написано пять актов драмы в редакции, представленной текстом рукописи, описанной под № 20. В процессе работы над рукописями драмы 1-е действие переделывалось 4 раза, 2-е – 5 раз, остальные по 3 раза. Можно думать, что с 1-й по 14-ю рукопись (см. описание рукописей) работа шла так, что вслед за написанием каждый акт немедленно переписывался и исправлялся до начала работы над следующим актом, и лишь начиная с рукописи № 15 драма исправлялась вся целиком. Если принять во внимание, что Толстой исправлял по крайней мере три корректуры драмы (не считая варианта 4-го действия), то пьеса в целом (без варианта 4-го действия) имела не менее семи редакций.
После того как драма была сдана в печать и переслана в цензуру, Толстой, в виду доходивших до него суждений о том, что четвертый акт слишком реалистичен и потому для исполнения на сцене мало пригоден, решил написать вариант последних четырех явлений этого действия. Работа над ним происходила в декабре 1886 г. Этим месяцем рукой С. А. Толстой помечен автограф варианта (см. описание рукописей, № 23). 9—10 декабря Толстой писал Черткову: «Работал я для календаря, а потом драму. Кажется, что я грешил с ней, очень уж ее отделывал. А это не следует, и оттого хуже многое бывает».[547 - Там же, стр. 416.] 18 декабря он писал ему же: «Я вот недели здесь занят поправками, прибавками к драме. Она нравится всем очень».[548 - Там же, стр. 422.] Вариант, после того как он был написан, был трижды исправлен и отдан в печать. (Всего таким образом мы имеем четыре его рукописных редакции: в корректуре он подвергся незначительным исправлениям.)
Творческая работа Толстого над драмой выражалась преимущественно в стилистической ее отделке и исправлении языка действующих лиц. Но не только в этом. Как видно из описания рукописей, фигура Митрича введена была в пьесу не сразу, а лишь в третьей редакции третьего действия, и по мере работы над пьесой она занимала в ней всё большее и большее место. С этой фигурой связан впоследствии и эпизод покушения Никиты на самоубийство, введенный в пьесу не ранее, чем во второй корректуре. В процессе работы введены были и некоторые второстепенные фигуры, в том числе Марфы, сестры Петра, кумы-соседки и др.
Над языком драмы Толстой работал очень упорно, стремясь к максимальной его выразительности и близости к живой народной речи. Особенно это нужно сказать о работе над языком Матрены, вбиравшем в себя всё большее и большее количество колоритных словечек, метких присловий и поговорок. Приведем несколько примеров.
В первом действии (явление V) к словам Петра в рукописи № 15 «Да буде. Чего взбеленилась?» в рукописи № 20 добавлено: «ровно овца круговая?» Так и в печатном тексте.
В том же действии (явлениеХ) слова Матрены в рукописи № 15 «Рассудка нет в нем ничего, а тоже другой раз втемяшит что в башку свою дурацкую, никак не выбьешь» в рукописи № 20 исправлены так: «Ум у него вовсе расхожий, а тоже другой раз заберет что в башку свою дурацкую, как колом подопрет, никак не выбьешь». Так и в печатном тексте.
В том же действии и явлении слова Анисьи в рукописи № 15 «Думаю, любит он ее» в рукописи № 20 исправлены так: «Думаю, в сердце она у него». Так и в печатном тексте.
Во втором действии (явление XII) в рукописи № 8 Матрена говорит, обращаясь к Петру: «Мое почтение. Старик поклон прислал. Петр Игнатьич, и что ты стал, погляжу на тебя. Не красит, видно, хворь-то. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу на тебя». В копии этой рукописи (№ 16) эти слова исправлены так: «Здравствуй, благодетель, здравствуй, касатик. Хвораешь, видно, всё. И старик мой как жалеет! Поди, говорит, проведать, поклон прислал. (Еще раз кланяется.) И то посмотрю на тебя, Игнатьич, не по лесу видно, а по людям боль-то ходит. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу я на тебя. Не красит, видно, хворь-то». Так и в печатном тексте.
Несколько ниже, в том же действии и явлении, слова Матрены в рукописи № 8 «Что же так убиваешься. Бывает, и поднимешься. Так-то вот» – в рукописи № 16 исправлены: «Бог души не вынет, сама душа не выйдет. В смерти и животе Бог волен, Петр Игнатьич. Тоже и смерти не угадаешь. Бывает, и поднимешься. Так-то вот у нас в деревне мужик совсем уж было помирал…» Так и в печатном тексте.
В том же действии (явление XVIII) слова Матрены в рукописи № 8 «Нет, малый, тут ума много надо. Ты думаешь, я тебя забыла? Я все ноженьки исходила, об тебе хлопотала» в рукописи № 16 исправлены так: «Нет, малый, живой живое и думает. А дело загодя припасать надо. Нет. ягодка, тут тоже ума много надо. Ты как думаешь? Я по твоему делу по всем местам толкалась, все ноженьки исходила, об тебе хлопотамши». В дальнейшем здесь исправления сделаны были еще в рукописи № 20, в первой и второй корректуре. В результате в печатном тексте читается: «Эх, сынок! Живой живое и думает. Тут, ягодка, тоже ума надо много. Ты как думаешь, я по твоему делу по всем местам толкалась, все ляжки измызгала, об тебе хлопотамши. А ты, помни, тогда меня не забудь».
В четвертом действии (явление III) слова Матрены в рукописи № 8 «И, и… Она-то хворая? Да против ней в округе нет. А работать – страсть. Так, что-то над ней сделалось, с глаза, должно, это сделано» в рукописи № 16 исправлены так: «И, и … Она-то хворая? Да против ней в округе нет. Девка гладкая – не ущипнешь. А работать – страсть. С глушинкой она – это точно. Ну да червоточина красному яблочку не покор. А что не вышла, это с глазу. Так, что-то над ней сделалось. Сделано над ней». В рукописи № 20 «гладкая» исправлено на «как литая». Во второй корректуре после слов «не ущипнешь» добавлено: «Да ведь ты видел»; перед словами «с глазу» добавлено «ведашь». Слова «так, что-то над ней сделалось» зачеркнуты. Так и в печатном тексте.
В том же действии (явление XI) слова Матрены в рукописи № 8 «Что заробел?» в рукописи № 16 исправлены так: «Ты что сидишь, как курица на насесте? Тебе что баба велела? Готовь дело-то». Так и в печатном тексте.
В том же действии (явление XIII) слова Матрены в рукописи № 18 «Тоже озлилась баба» в рукописи № 20 исправлены: «Тоже острабучилась баба». Так и в печатном тексте.
Количество этих примеров может быть сильно умножено.
Идейное наполнение пьесы, главнейшие ее эпизоды и ситуации, а также характеры действующих лиц – всё это в основном не претерпело существенных изменений в процессе работы Толстого над пьесой, если не считать добавления эпизода покушения на самоубийство Никиты и введения нескольких новых действующих лиц, из которых важнейшим является Митрич.
В развитии сюжета драмы Толстой, как сказано выше, отправлялся от судебного дела Колосковых. Оттуда и прототипы четырех персонажей пьесы – Никиты, Анисьи, Акулины и Анютки (Ефрем и Марфа Колосковы, Елена и Ефимья). Но реальные прототипы в их творческой переработке были значительно видоизменены с явным намерением подчеркнуть отрицательные стороны женской натуры. Анисья в пьесе нравственно значительно более отталкивающий тип, чем Марфа Колоскова в жизни, насколько о ней можно судить по судебному делу. Для усиления темных красок в облике Анисьи в пьесу введен эпизод отравления ее первого мужа Петра, не находящий себе никакого соответствия в данных судебного дела. Падчерица Колоскова Елена, несчастная жертва своего отчима, по отзывам свидетелей-крестьян «девушка добрая, смирная, работящая и ни в чем дурном не замеченная»,[549 - Цитируем заключение прокурора суда об освобождении Елены от обвинения, утвержденное судебной палатой, по подлинному делу Колосковых, л 7.] у Толстого превратилась в дурковатую, злую, грубую и чувственную Акулину, очевидно добровольно вступающую в связь с Никитой. С другой стороны, Никита в пьесе морально выигрывает по сравнению со своим прототипом Ефремом Колосковым. Он не насильник и по существу не злой человек (его Толстой в плане пьесы характеризует даже как мягкосердечного), в то время, как Колосков насилует безответную Елену и по отзывам свидетелей «человек нехороший, нетрезвый и суровый».[550 - Там же, л. 7.]
Очевидно в интересах романической интриги Толстой уменьшил возраст Анисьи и Никиты по сравнению с возрастом Марфы и Ефрема Колосковых: Анисье тридцать два года (вместо пятидесяти лет Марфы Колосковой) и Никите двадцать (вместо тридцати семи Ефрема Колоскова). Для того чтобы сделать Анютку действующим лицом в пьесе, возраст ее был увеличен сравнительно с возрастом Евфимьи (Анютке десять лет, Евфимье – шесть). Эпизод покушения Колоскова на убийство дочери, судя по плану предполагавшийся для введения в пьесу, не был однако использован Толстым.
Что касается других персонажей пьесы, то некоторые из них несомненно подсказаны были Толстому встречавшимися ему в жизни реальными прототипами.
Так, Н. В. Давыдов вспоминает, что несколько раньше или в то время
когда Толстой писал «Власть тьмы», он говорил, что повстречался на шоссе с ехавшим куда-то стариком-крестьянином, с которым вступил в беседу, причем старик этот пленил его своим благодушием и кротостью; крестьянин между прочим рассказал, что нашел выгодную работу отходника.[551 - «Из прошлого», стр. 287.] В этом крестьянине нетрудно усмотреть прототип Акима.
А. К. Черткова, записывая следующие слова Толстого, вспоминает свою беседу с ним в середине декабря 1886 г., в связи с его тогдашней работой над вариантом четвертого действия, вызванной тем, что литераторы и театралы находили четвертое действие слишком грубым, бьющим на нервы: «Ну что же, может это и правда… Так вот я думал, чем бы заменить помягче, чтобы не так шокировать их деликатные нервы… ну, и увлекся. Вспомнил тип отставного солдата, забавный был такой старик!…»[552 - «Толстой и о Толстом». Новые материалы. Сборник второй. Редакция В. Г. Черткова и Н. Н. Гусева, М. 1926, стр. 88. В Дневнике 1881 г. Толстой отмечает целый ряд своих встреч с проходившими через Ясную поляну отставными солдатами. Возможно, что именно в это время он встретился с солдатом, который послужил прототипом Митрича. Уже после написания драмы Толстой 13 января 1887 года писал жене из имения Олсуфьевых Никольского, где он гостил: «Нынче много ходил гулять – в караулке, в лесу, нашел солдата – Митрича живого» (ПЖ, стр. 305).] Здесь речь идет о Митриче, фигура которого, судя по этим словам и по исправлениям и дополнениям в корректуре пятого действия, уже в самом конце работы над пьесой была сильно развита по сравнению с тем, что сделано было вначале. Образ Митрича – теперь отставного солдата, добродушного словоохота, в котором неожиданно прорвалась его натура пропойцы и беспечного забулдыги, которому Толстой до известной степени усвоил функции хора древне-греческой трагедии, – этот образ получил свое оформление сначала в работе над вариантом конца четвертого действия, затем в работе над корректурой пятого действия.[553 - И. Тенеромо (И. Б. Фейнерман), свидетель весьма недостоверный, в своих воспоминаниях о Толстом также дает несколько указаний относительно прототипов «Власти тьмы». В заметке „Как создавалась «Власть тьмы»“, напечатанной в его книге «Живые речи Л. Н. Толстого», Одесса, 1908, стр. 151—156, Тенеромо передает рассказ крестьянина, которого направил к нему Толстой. Крестьянин заикающейся и заплетающейся речью якобы рассказал о том, что его сын Никифор, служивший на станции Козловка, сойдясь с кухаркой Мариной, которая после этого забеременела, отказывается на ней жениться. Девушка покушалась на самоубийство, но Никифор всё-таки упорствует. В тот же вечер, по словам Тенеромо, Толстой вместе с ним поехал в Козловку, чтобы усовестить парня. Дорогой Лев Николаевич с похвалой отзывался о крестьянине и об его манере говорить и вспомнил другую свою встречу с таким же богобоязненным и мягким стариком – крестьянином, работавшим золотарем в Туле и говорившим тоже заплетающейся речью, с добавками «тае, тае». Через месяц отец Никифора якобы вновь был у Толстого с известием, что свадьба сына с Мариной налаживается. Он привел с собой и свою жену старуху, которая восхитила Толстого своим языком, переполненным колоритными ругательствами и похожим на язык яснополянской крестьянки Надежды Зубастой, жены крестьянина Константина. Она была против женитьбы своего сына на Марине. Около того же времени (дело было весной или в начале лета 1886 г.) Давыдов, по словам якобы самого Толстого, рассказал ему о деле Колосковых. Всеми этими впечатлениями подсказаны были образыАкима, Никиты, Матрены и Марины в драме, написанной через несколько месяцев после этого. Во второй редакции заметки, напечатанной под тем же заглавием в книге «Живые слова Л. Н. Толстого», М. 1912, стр. 239—241, факты переданы не совсем так как в первой редакции. Соблазнитель Марины называется не Никифор, а Иван, о старике-золотаре, говорящем с прибавкой «тае», ничего не говорится, и «тае» усваивается отцу соблазнителя. Ничего не говорится и о приходе к Толстому матери Никифора – Ивана, и из изложения явствует, что не она послужила прототипомМатрены, а Надежда Зубастая. Толстой, оказывается, ездил в Козловку для увещевания соблазнителя Марины не один раз, а два – второй раз с Н. Н. Ге. Иначе во второй редакции заметки звучат и речи крестьян.Уже эта противоречивость в изложении одних и тех же фактов не позволяет полагаться на сообщения Тенеромо, так же как и на его передачу мыслей Толстого о существе драматического произведения и о процессе работы над «Властью тьмы», приведенную Тенеромо еще в третьем варианте – заметке «О театре», напечатанной первоначально в его же книжке «Живые речи Л. Н. Толстого», Спб. 1909, стр. 39—41. Но и помимо этого, мы располагаем характеристикой упоминаемой Тенеромо Надежды Зябревой (по прозвищу Зубастой), данной самим Толстым в «Записках христианина» и в дневнике 1881 г. (см. т. 49 настоящего издания), совершенно несходной стой, какую дает Тенеромо, и не дающей никаких оснований видеть в этой крестьянке прототип Матрены.В заметке «Старого литератора» (псевдоним П. А. Сергеенко) „Лев Толстой и «Власть тьмы»“, напечатанной в № 2 журнала «Рампа» за 1908 г., стр. 22—23, передаются сведения о прототипах «Власти тьмы», очевидно, основанные на заметке Тенеромо.]
II.
Драма Толстого, поступив в цензуру, встретила там на первых порах сопротивление. 17—18 декабря Толстой писал H.H. Ге-старшему: «Дело печатания затихло от цензуры. Всё марают.[554 - «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка», изд. «Academia», стр. 94.] Тогда же в цитированном уже письме к Черткову он пишет: «Так цензура нас совсем хочет заструнитъ. Надеюсь, что вас это не огорчает, меня нисколько… Я хотел было, чтобы играли ее на народном театре у Лентовского, но боюсь, что не придется от цензуры театральной, хотя в драме ничего нет нецензурного».[555 - Том 85 настоящего издания, стр. 421.]
Судя по воспоминаниям кн. Д. Д. Оболенского, драма Толстого первоначально была направлена в московскую духовную цензуру, которая отнеслась к ней крайне сурово. Д. Д. Оболенский рассказывает следующее. В бытность его в Петербурге зимой 1886 г. (или 1887 г., добавляет Д. Д. Оболенский, явно ошибаясь) он повстречался с публицистом С. С. Татищевым, сообщившим ему, что артистка Александринского театра М. Г. Савина усиленно ищет пьесу для своего бенефиса и ничего подходящего не находит. Оболенский рассказал Татищеву о новой пьесе, написанной Толстым, и тут же обратился к Толстому по телеграфу с просьбой разрешить постановку пьесы в бенефис Савиной. На следующий день от Толстого был получен телеграфный ответ приблизительно следующего содержания: «Согласен, буду очень рад, только чтобы мне денег за это не получать». Вслед за этим Оболенский поехал в Москву с намерением выслать оттуда отпечатанный или написанный от руки экземпляр драмы, не имевшей еще заглавия. Так как у Толстого под руками не было ни одного ее экземпляра, то он вместе с Оболенским отправился в типографию И. Д. Сытина, где драма печаталась. Но в типографии ему сообщили, что духовная цензура вернула перечеркнутый экземпляр пьесы, уведомив, что пьеса ни под каким видом пропущена не будет. После этого перечеркнутый цензурой экземпляр был переслан Оболенским в Петербург Татищеву, сам же Оболенский решил в Петербурге добиваться отмены цензурного запрещения пьесы.[556 - Кн. Д. Оболенский. «О «Власти тьмы» гр. Л. Н. Толстого». – «Русское слово», № 212 от 13 сентября 1908 г. В фельетоне Г. Н. «Московские впечатления заезжего петербуржца», напечатанном в № 18 «С.-Петербургских ведомостей» от 18 января 1887 г., сообщалось о том, что драма Толстого, первоначально представленная в московскую цензуру без имени автора, была запрещена для печати в виду её «скабрезности и отсутствия всякой литературности». Это сообщение было перепечатано со ссылкой на «С.-Петербургские ведомости» в № 4 «Недели» за тот же год.]
В письме от 20 декабря М. Г. Савина благодарила Толстого за согласие, полученное ею через Оболенского, и просила через него же переслать ей рукопись драмы, обещая взять на себя хлопоты перед общей и театральной цензурой (АТБ). В ответ на это письмо Толстой в декабре же писал ей: «Посылаю вам, Марья Гавриловна, свою пьесу. Очень желал бы, чтобы она вам понравилась. Боюсь, что она покажется петербургской публике и вам слишком грубою. Четвёртый акт с того листа, где отчеркнуто красным карандашом, мною изменён. Вариант этот, если не будет готов нынче печатный, то я пришлю его вам завтра. Всё, что найдет нужным театральная цензура изменить, чтобы смягчить, я на всё согласен, если такие изменения будут одобрены А. А. Потехиным, которому я вполне доверяю. Роль ваша мне представляется Марина».[557 - «Ежегодник императорских театров» сезон 1895—1896 г. Спб., 1897, стр. 139.]
27 декабря А. А. Стахович писал Толстому: «Сию минуту вернулся от Савиной, которая сегодня едет в Москву, единственно чтоб переговорить с Вами и ранее моего письма объяснить Вам, что, по сложившимся обстоятельствам, она не может взять на свой бенефис «Власть тьмы» (кажется, власть тьмы ополчается на вашу пьесу)»… (АТБ).
2 Января 1887 от Савиной была получена телеграмма, в которой она сообщала о том, что пьеса запрещена не только для театра, но и для печати.[558 - «Воспоминания С. А. Толстой». ТЕ, 1912, стр. 18.] Толстой в это время гостил у А. В. Олсуфьева в его имении Никольском. С. А. Толстая в связи с телеграммой Савиной написала начальнику главного управления по делам печати Е. М. Феоктистову недоумевающее письмо, в ответ на которое Феоктистов в письме к С. А. Толстой от 9 января, ничего не говоря о запрещении пьесы для печати и не предрешая вопроса о том, будет ли она разрешена для постановки на сцене, высказал свой личный взгляд на пьесу и, между прочим, писал: «Пьеса должна произвести самое удручающее впечатление на публику; в ней изображался целый ряд прелюбодеяний и убийств, в высшей степени возмутительных. Действующие лица говорят языком невозможным по своему цинизму; не только отдельные сцены, но весь четвёртый акт таков, что – полагаю – никогда и нигде в мире не появлялось на сцене ничего подобного… Надо иметь железные нервы, чтобы вынести всё это» (АТБ).
Толстой, извещённый женой о судьбе драмы, отнёсся вполне спокойно к цензурным неприятностям. 7 января он писал ей: «А ты не слишком ли разлетелась на Феоктистова? Главное, не надо сердиться, а ещё лучше – вовсе не заботиться».[559 - ПЖ, стр. 303.] В тот же день он писал Черткову: «Нынче получил письмо от Стаховича[560 - А. А. Стахович в письме к Толстому от 4 января 1887 г. писал о своём чтении драмы у гр. Е. И. Шуваловой (АТБ).] и от жены и статью в «Новом времени»[561 - А. С. Суворин в № 3898 газеты «Новое время» от 5 января 1887 г. поместил статью «По поводу драмы Л. Н. Толстого», в которой он, на основании знакомства с драмой по рукописи, дает ей очень высокую оценку.] – всё о драме. Чуть-чуть опять не впал в малодушество; но как-то в более серьёзном духе здесь и остаюсь равнодушным и вполне уверенным, что в «Посреднике» она пройдёт, что, главное, желательно».[562 - ТЕ, 1913, стр. 42—43.]
Хлопоты перед цензурой взял на себя В. Г. Чертков. Он старался ознакомить с драмой возможно большее количество влиятельных лиц из светского общества, могущих в благоприятном для судьбы драмы смысле повлиять на цензурные сферы. С этою целью по просьбе Черткова А. А. Стахович читал драму в различных великосветских салонах, и сам Чертков при посредстве своей матери старался добиться положительного отношения к драме со стороны министра двора гр. И. М. Воронцова-Дашкова, царя и царицы.
Из письма Черткова к Толстому от 2 января, так же как и из цитированного письма Феоктистова к С. А. Толстой от 9 января, явствует, что гр. Татищев, который представил Феоктистову полученный им от Савиной экземпляр драмы, ходатайствовал лишь о разрешении её постановки на сцене. Феоктистов, по словам Черткова, сам взялся цензуровать драму, видимо для театра, и сделал такие помарки, при которых первоначальная редакция 4-го действия совсем кастрирована, но вариант и всё остальное не испорчено. Все резкие ругательства, в роде «пес», вычеркнуты; место о банке всё обчерчено (письмо Черткова к Толстому от 2 января 1887 г., АТБ).
10 января Чертков писал Толстому: «Много хлопотал по поводу драмы, устраивал чтения её со Стаховичем ради противодействия распущенным невыгодным слухам. Стахович мне говорил, что он вам писал про эти чтения. Читали у графини Шуваловой, княгини Паскевич и графини А. А. Толстой.[563 - В связи с чтением драмы у А. А. Толстой Лев Николаевич писал ей в январе 1887 г.: «Узнал, что вы – несчастная – слушаете моё ужасное сочинение. Право, это не слова: я истинно считаю это сочинение вовсе не заслуживающим тех разговоров, которые о ней идут в вашем обществе. Надеюсь, что она (пьеса) будет полезна для тех. для «большого света», для которого я писал ее, но вам она совсем не нужна». ПТ, стр. 346.] Везде она произвела самое прекрасное и сильное впечатление, и результат этих чтений уже проявляется. Сегодня мать была у императрицы, которая ей сказала, что сначала она слышала про эту драму дурное, а теперь её очень хвалят. Государь хочет её прочесть, и ко мне обращались за экземпляром для него. Между тем я просил Кузминского передать её Феоктистову, и он должен был это сделать сегодня; но я ещё не знаю результата». В приписке к этому письму, сделанной 11 января, Чертков пишет: «Кузминский мне сегодня сообщил, что Феоктистов обещался разрешить драму для печати, и с вариантом, и в первоначальной форме. На этих днях мы получим официально разрешенный экземпляр. Завтра будет чтение драмы у Кузминских, и Феоктистов придёт. Надеюсь, что он принесёт разрешенную драму» (АТБ).
13 января драма была разрешена к печати без всяких цензурных изъятий, за исключением лишь эпиграфа из «Евангелия». Об этом Феоктистов известил С. А. Толстую в письме от 14 января, в котором писал: «Во всей пьесе не вычеркнуто ни одного слова. Из этого вы изволите видеть, что мы ничего не имеем против появления пьесы в печати, но имеем очень многое против постановки ее на сцене» (АТБ).
А. А. Стахович в письме к С. А. Толстой так объясняет тот факт, что «Власть тьмы» была разрешена цензурой в народном издании, каким являлся «Посредник»: «Феоктистов объявил Черткову, что не может разрешить напечатать в «Посреднике» эту пьесу. Чтобы доказать, что напечатать ее можно, потому что народ не поймет такой серьезной вещи, и что «Власть тьмы» вообще выше понимания масс, которым только доступны народные рассказы и поучения Льва Николаевича, я во многих домах рассказывал о чтении в Ясной поляне «Власти тьмы» крестьянам, и как они не поняли и не оценили ее. То же самое передал Чертков Феоктистову, и наша хитрость удалась. «Власть тьмы» была пропущена для «Посредника», т. е. для народного чтения».[564 - ТЕ, 1912, стр. 43.]
В письме от 15 января Чертков, извещая Толстого о том, что пьеса разрешена цензурой, писал ему: «Я слышал от молодого Олсуфьева, что вы хотите еще кое-что изменить и прибавить в вашей драме. Пожалуйста, позвольте сделать эти изменения во втором издании, но не изменяйте теперь того, что я послал Сытину для печатания. В цензуре еще не знают, что драма эта выйдет в таком доступном народном виде, и они могут придраться к малейшему изменению. Когда же она выйдет в свет в первом издании, то очень трудно будет остановить дальнейшие издания. Я распорядился, чтобы вариант поместили тотчас после IV действия. Читателям будет очень приятно и хорошо прочесть обе редакции конца этого действия, и на этом месте, как мне кажется, вариант не только не повредит общему впечатлению, но, наоборот, прибавит содержания, так как, собственно говоря, в варианте очень много повторения» (АТБ).
В ответ на эти строки письма Толстой писал Черткову 18 января: «Драму, я думаю, лучше печатать половину экземпляров с одной, а другую половину с другой редакцией 4-го действия. Напишите, как вы думаете. Для цензуры в этом, кажется, ничего нет противного. А остальное до 2-го издания переменять не буду».[565 - Там же, стр. 43.]
В письме к Толстому от 20 января Чертков не советовал печатать драму так, как предполагал это сделать Толстой, и настаивал, подробно аргументируя свои соображения, на том, чтобы вариант 4-го действия был напечатан во всех экземплярах драмы вслед зa основным текстом этого действия (АТБ).
В ответ на это письмо Толстой писал Черткову 22 января: «Вчера получил ваше письмо с доводами, почему печатать так, как вы распорядились, и совершенно согласен».[566 - Там же, стр. 44.]
21 января цензурованный экземпляр «Власти тьмы» был получен в Москве,[567 - Об этом извещал Черткова Толстой в письме от 21 января 1887 г. (ГТМ—AЧ).] и в начале февраля 1887 г. драма вышла в свет в издании «Посредника»: «Власть тьмы», или «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Драма в пяти действиях Льва Толстого». Типография И. Д. Сытина и К°, Москва, 1887, 198 стр., цена 9 к., цензурное разрешение – Спб. 13 января 1887 г., в количестве 12 000 экземпляров.[568 - «См. «Правительственный вестник» 1887 г., № 46 от 1 марта. «Список изданий, вышедших в России с 1 по 8 февраля 1887 г.».] Заглавие «Власть тьмы», нигде не встречающееся ни в рукописях, ни в сохранившейся корректуре, было дано драме Толстым, очевидно, в последней, не дошедшей до нас корректуре и, видимо, заимствовано из «Евангелия» от Луки, гл. XXII, ст. 53: «Но теперь – ваше время и власть тьмы». (Первоначальное заглавие – «Коготок увяз, всей птичке пропасть», ставшее потом подзаголовком, заимствовано из слов Никиты в конце V действия.) В этом издании допущен ряд опечаток. Почти одновременно с этим изданием «Власть тьмы» была напечатана в изданиях С. А. Толстой. 1) «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Часть двенадцатая. Произведения последних годов». Издание третье. Типография А. Мамонтова и К° Москва, 1886, в количестве 6000 экземпляров.[569 - Там же, № 51 от 8 марта. «Список изданий, вышедших в России с 9 по 15 февраля 1887 г.».] 2) «Сочинения графа Л. Н. Толстого. Декабристы. Холостомер и Смерть Ивана Ильича». Издание шестое, та же типография, М., 1886, в количестве 6000 экземпляров.[570 - Там же, № 56 от 16 марта. «Список изданий, вышедших в России с 16 по 21 февраля 1887 г.».] 3) „«Сочинения графа Л. Н. Толстого. Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть»“, та же типография, М. 1887, 174 стр., цензурное разрешение 13 февраля 1887 г., в количестве 3600 экземпляров.[571 - Там же, № 64 от 24 марта. «Список изданий, вышедших в России с 1 по 8 марта 1887 г.».] В трех последних изданиях исправлены почти все опечатки, вкравшиеся в первое издание «Посредника». Вслед за первым изданием «Посредника» появились одно зa другим еще четыре (без нумерации изданий). Второе издание отпечатано в той же типографии Сытина, 108 стр., цензурное разрешение 5 февраля 1887 г., в количестве 12 000 экземпляров.[572 - Там же, № 57 от 15 марта. «Список изданий, вышедших в России с 24 по 28 февраля 1887 г.».] Все опечатки первого издания в нем удержались. В третьем издании (та же типография, 180 стр., цензурное разрешение 5 февраля 1887 г.)[573 - Это издание в «Правительственном вестнике» не зарегистрировано.] частично исправлены опечатки первых двух. Четвертое и пятое издания (оба в типографии Е. Евдокимова, Спб. 1877, 176 стр. и 96 стр., цензурное разрешение в обоих на титульным листе 5 февраля и на задней обложке 13 марта 1887, одно в количестве 20 000, другое – 40 000 экземпляров, цена 3 к.)[574 - «Правительственный вестник» 1887 г., №№ 82 от 19 апреля и 88 от 26 апреля. «Список изданий, вышедших в России с 16 по 23 марта и с 24 по 31 марта 1887 г.».] почти совершенно устранили опечатки первых двух изданий, очевидно, с помощью изданий С. А. Толстой. В оба эти издания «Посредника» в заключительные слова Никиты в пятом действии был внесен следующий вариант. Вместо «Всё я один сделал. Мой и умысел, мое и дело» – он говорит: «От меня всё. Мой грех, мое и дело». Происхождение этого варианта таково. В письме от 4 февраля 1887 г. Чертков обратил внимание Толстого на то, что слова Никиты «Мой умысел» не соответствуют действительному положению дела, так как преступления, изображенные в драме, замышлены были не Никитой. Никита виноват в некритическом, снисходительном отношении к своим поступкам, и в этом его внутренняя вина, повлекшая за собой цепь преступлений, не им задуманных, но его нравственным поведением обусловленных. Ему незачем лгать в момент своего покаяния, и вместо «мой умысел» ему лучше сказать «моя вина» (АТБ). В ответ на это письмо Толстой писал Черткову 6 февраля: «Я согласен с вами. Можно так: вместо слов «Всё я один сделал. Мой умысел, мое и дело» – поставить: «От меня всё. Мой грех, мое и дело». Скажу только, что «мой умысел, мое и дело» не значит то, что это значит на юридическом жаргоне, а значит в народном языке то, что он признает себя виновным не только в действии, которое могло быть случайным, но в мыслях в духовном смысле. Иначе я и не думал. Лгать ему тут некогда, а невольно вырываются слова, и слова хорошие, такие, которые никому не повредят» (ГТМ—AЧ). В ответном письме (от 9 февраля) Чертков, вполне удовлетворенный объяснением Толстого, всё же просил разрешения написать предложенный самим Толстым вариант «От меня всё. Мой грех, мое и дело», для того чтобы не вводить в заблуждение читателей, недостаточно знакомых с тонкостями народного языка.