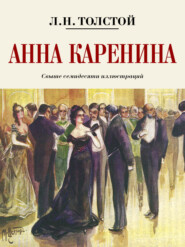По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Тома 18-19
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну и прекрасно, теперь я спокоен. Я прогоню его, – сказал Левин.
– Что ты, с ума сошел? – с ужасом вскрикнула Долли. – Что ты, Костя, опомнись! – смеясь сказала она. – Ну, можешь итти теперь к Фанни, – сказала она Маше. – Нет, уж если хочешь ты, то я скажу Стиве. Он увезет его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообще он нам не к дому.
– Нет, нет, я сам.
– Но ты поссоришься?..
– Нисколько. Мне так это весело будет, – действительно весело блестя глазами, сказал Левин. – Ну, прости ее, Долли! Она не будет, – сказал он про маленькую преступницу, которая не шла к Фанни, и нерешительно стояла против матери, исподлобья ожидая и ища ее взгляда.
Мать взглянула на нее. Девочка разрыдалась, зарылась лицом в коленях матери, и Долли положила ей на голову свою худую, нежную руку.
«И что общего между нами и им?» – подумал Левин и пошел отыскивать Весловского.
Проходя через переднюю, он велел закладывать коляску, чтобы ехать на станцию.
– Вчера рессора сломалась, – отвечал лакей.
– Ну так тарантас, но скорее. Где гость?
– Они пошли в свою комнату.
Левин застал Васеньку в то время, как тот, разобрав свои вещи из чемодана и разложив новые романсы, примеривал краги, чтоб ездить верхом.
Было ли в лице Левина что-нибудь особенное, или сам Васенька почувствовал, что ce petit brin de cour,[90 - [приволакивание,]] который он затеял, был неуместен в этой семье, но он был несколько (сколько может быть светский человек) смущен входом Левина.
– Вы в крагах верхом ездите?
– Да, это гораздо чище, – сказал Васенька, ставя жирную ногу на стул, застегивая нижний крючок и весело, добродушно улыбаясь.
Он был несомненно добрый малый, и Левину жалко стало его и совестно за себя, хозяина дома, когда он подметил робость во взгляде Васеньки.
На столе лежал обломок палки, которую они нынче утром вместе сломали на гимнастике, пробуя поднять забухшие барры. Левин взял в руки этот обломок и начал обламывать расщепившийся конец, не зная, как начать.
– Я хотел… – Он замолчал было, но вдруг, вспомнив Кити и всё, что было, решительно глядя ему в глаза, сказал: – я велел вам закладывать лошадей.
– То есть как? – начал с удивлением Васенька. – Куда же ехать?
– Вам, на железную дорогу, – мрачно сказал Левин, щипля конец палки.
– Вы уезжаете или что-нибудь случилось?
– Случилось, что я жду гостей, – сказал Левин, быстрее и быстрее обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. – И не жду гостей, и ничего не случилось, но я прошу вас уехать. Вы можете объяснить как хотите мою неучтивость.
Васенька выпрямился.
– Я прошу вас объяснить мне… – с достоинством сказал он, поняв наконец.
– Я не могу вам объяснить, – тихо и медленно, стараясь скрыть дрожание своих скул, заговорил Левин. – И лучше вам не спрашивать.
И так как расщепившиеся концы были уже все отломаны, Левин зацепился пальцами за толстые концы, разодрал палку и старательно поймал падавший конец.
Вероятно, вид этих напряженных рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов. Он, пожав плечами и презрительно улыбнувшись, поклонился.
– Нельзя ли мне видеть Облонского?
Пожатие плеч и улыбка не раздражили Левина. «Что ж ему больше остается делать?» подумал он.
– Я сейчас пришлю его вам.
– Что это за бессмыслица! – говорил Степан Аркадьич, узнав от приятеля, что его выгоняют из дому, и найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя. – Mais c’est ridicule![91 - [Ведь это смешно!]] Какая тебя муха укусила? Mais c’est du dernier ridicule![92 - [Ведь это смешно до последней степени!]] Что же тебе показалось, если молодой человек…
Но место, в которое Левина укусила муха, видно, еще болело, потому что он опять побледнел, когда Степан Аркадьич хотел объяснить причину, и поспешно перебил его:
– Пожалуйста, не объясняй причины! Я не могу иначе! Мне очень совестно перед тобой и перед ним. Но ему, я думаю, не будет большого горя уехать, а мне и моей жене его присутствие неприятно.
– Но ему оскорбительно! Et puis c’est ridicule.[93 - [Кроме того, это смешно.]]
– A мне и оскорбительно и мучительно! И я ни в чем не виноват, и мне не зачем страдать!
– Ну, уж этого я не ждал от тебя! On peut ?tre jaloux, mais ? ce point, c’est du dernier ridicule![94 - [Можно быть ревнивым, но в такой мере – это смешно до последней степени!]]
Левин быстро повернулся и ушел от него в глубь аллеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он услыхал грохот тарантаса и увидал из-за деревьев, как Васенька, сидя на сене (на беду не было сиденья в тарантасе) в своей шотландской шапочке, подпрыгивая по толчкам, проехал по аллее.
«Это что еще?» подумал Левин, когда лакей, выбежав из дома, остановил тарантас. Это был машинист, про которого совсем забыл Левин. Машинист, раскланиваясь, что-то говорил Весловскому; потом влез в тарантас, и они вместе уехали.
Степан Аркадьич и княгиня были возмущены поступком Левина. И он сам чувствовал себя не только ridicule[95 - [смешным]] в высшей степени, но и виноватым кругом и опозоренным; но, вспоминая то, что он и жена его перестрадали, он, спрашивая себя, как бы он поступил в другой раз, отвечал себе, что точно так же.
Несмотря на всё это, к концу этого дня все, за исключением княгини, не прощавшей этот поступок Левину, сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказанья или большие после тяжелого официального приема, так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишнее событие. И Долли, имевшая от отца дар смешно рассказывать, заставляла падать от смеха Вареньку, когда она в третий и четвертый раз, всё с новыми юмористическими прибавлениями, рассказывала, как она, только что собралась надеть новые бантики для гостя и выходила уж в гостиную, вдруг услыхала грохот колымаги. И кто же в колымаге? – сам Васенька, с шотландскою шапочкой, и с романсами, и с крагами, сидит на сене.
– Хоть бы ты карету велел запрячь! Нет, и потом слышу: «Постойте!» Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили к нему толстого Немца и повезли… И бантики мои пропали!..
XVI.
Дарья Александровна исполнила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное ее мужу; она понимала, как справедливы Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским; но она считала своею обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не могут измениться, несмотря на перемену ее положения.
Чтобы не зависеть от Левиных в этой поездке, Дарья Александровна послала в деревню нанять лошадей; но Левин, узнав об этом, пришел к ней с выговором.
– Почему же ты думаешь, что мне неприятна твоя поездка? Да если бы мне и было это неприятно, то тем более мне неприятно, что ты не берешь моих лошадей, – говорил он. – Ты мне ни разу не сказала, что ты решительно едешь. А нанимать на деревне, во-первых, неприятно для меня, а главное, они возьмутся, но не довезут. У меня лошади есть. И если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми моих.
Дарья Александровна должна была согласиться, и в назначенный день Левин приготовил для свояченицы четверню лошадей и подставу, собрав ее из рабочих и верховых, очень некрасивую, но которая могла довезти Дарью Александровну в один день. Теперь, когда лошади нужны были и для уезжавшей княгини и для акушерки, это было затруднительно для Левина, но по долгу гостеприимства он не мог допустить Дарью Александровну нанимать из его дома лошадей и, кроме того, знал, что двадцать рублей, которые просили с Дарьи Александровны за эту поездку, были для нее очень важны; а денежные дела Дарьи Александровны, находившиеся в очень плохом положении, чувствовались Левиными как свои собственные.
Дарья Александровна по совету Левина выехала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, лошади бежали весело, и на козлах, кроме кучера, сидел конторщик вместо лакея, посланный Левиным для безопасности. Дарья Александровна задремала и проснулась, только подъезжая уже к постоялому двору, где надо было переменять лошадей.
Напившись чаю у того самого богатого мужика-хозяина, у которого останавливался Левин в свою поездку к Свияжскому, и побеседовав с бабами о детях и со стариком о графе Вронском, которого тот очень хвалил, Дарья Александровна в 10 часов поехала дальше. Дома ей, за заботами о детях, никогда не бывало времени думать. Зато уже теперь, на этом четырехчасовом переезде, все прежде задержанные мысли вдруг столпились в ее голове, и она передумала всю свою жизнь, как никогда прежде, и с самых разных сторон. Ей самой странны были ее мысли. Сначала она думала о детях, о которых, хотя княгиня, а главное Кити (она на нее больше надеялась), обещала за ними смотреть, она всё-таки беспокоилась. «Как бы Маша опять не начала шалить, Гришу как бы не ударила лошадь, да и желудок Лили как бы еще больше не расстроился». Но потом вопросы настоящего стали сменяться вопросами ближайшего будущего. Она стала думать о том, как в Москве надо на нынешнюю зиму взять новую квартиру, переменить мебель в гостиной и сделать шубку старшей дочери. Потом стали представляться ей вопросы более отдаленного будущего: как она выведет детей в люди. «Девочек еще ничего, – думала она, – но мальчики?»
«Хорошо, я занимаюсь Гришей теперь, но ведь это только оттого, что сама я теперь свободна, не рожаю. На Стиву, разумеется, нечего рассчитывать. И я с помощью добрых людей выведу их; но если опять роды»… И ей пришла мысль о том, как несправедливо сказано, что проклятие наложено на женщину, чтобы в муках родить чада. «Родить ничего, но носить – вот что мучительно», подумала она, представив себе свою последнюю беременность и смерть этого последнего ребенка. И ей вспомнился разговор с молодайкой на постоялом дворе. На вопрос, есть ли у нее дети, красивая молодайка весело отвечала:
– Была одна девочка, да развязал Бог, постом похоронила.
– Что ты, с ума сошел? – с ужасом вскрикнула Долли. – Что ты, Костя, опомнись! – смеясь сказала она. – Ну, можешь итти теперь к Фанни, – сказала она Маше. – Нет, уж если хочешь ты, то я скажу Стиве. Он увезет его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообще он нам не к дому.
– Нет, нет, я сам.
– Но ты поссоришься?..
– Нисколько. Мне так это весело будет, – действительно весело блестя глазами, сказал Левин. – Ну, прости ее, Долли! Она не будет, – сказал он про маленькую преступницу, которая не шла к Фанни, и нерешительно стояла против матери, исподлобья ожидая и ища ее взгляда.
Мать взглянула на нее. Девочка разрыдалась, зарылась лицом в коленях матери, и Долли положила ей на голову свою худую, нежную руку.
«И что общего между нами и им?» – подумал Левин и пошел отыскивать Весловского.
Проходя через переднюю, он велел закладывать коляску, чтобы ехать на станцию.
– Вчера рессора сломалась, – отвечал лакей.
– Ну так тарантас, но скорее. Где гость?
– Они пошли в свою комнату.
Левин застал Васеньку в то время, как тот, разобрав свои вещи из чемодана и разложив новые романсы, примеривал краги, чтоб ездить верхом.
Было ли в лице Левина что-нибудь особенное, или сам Васенька почувствовал, что ce petit brin de cour,[90 - [приволакивание,]] который он затеял, был неуместен в этой семье, но он был несколько (сколько может быть светский человек) смущен входом Левина.
– Вы в крагах верхом ездите?
– Да, это гораздо чище, – сказал Васенька, ставя жирную ногу на стул, застегивая нижний крючок и весело, добродушно улыбаясь.
Он был несомненно добрый малый, и Левину жалко стало его и совестно за себя, хозяина дома, когда он подметил робость во взгляде Васеньки.
На столе лежал обломок палки, которую они нынче утром вместе сломали на гимнастике, пробуя поднять забухшие барры. Левин взял в руки этот обломок и начал обламывать расщепившийся конец, не зная, как начать.
– Я хотел… – Он замолчал было, но вдруг, вспомнив Кити и всё, что было, решительно глядя ему в глаза, сказал: – я велел вам закладывать лошадей.
– То есть как? – начал с удивлением Васенька. – Куда же ехать?
– Вам, на железную дорогу, – мрачно сказал Левин, щипля конец палки.
– Вы уезжаете или что-нибудь случилось?
– Случилось, что я жду гостей, – сказал Левин, быстрее и быстрее обламывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. – И не жду гостей, и ничего не случилось, но я прошу вас уехать. Вы можете объяснить как хотите мою неучтивость.
Васенька выпрямился.
– Я прошу вас объяснить мне… – с достоинством сказал он, поняв наконец.
– Я не могу вам объяснить, – тихо и медленно, стараясь скрыть дрожание своих скул, заговорил Левин. – И лучше вам не спрашивать.
И так как расщепившиеся концы были уже все отломаны, Левин зацепился пальцами за толстые концы, разодрал палку и старательно поймал падавший конец.
Вероятно, вид этих напряженных рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов. Он, пожав плечами и презрительно улыбнувшись, поклонился.
– Нельзя ли мне видеть Облонского?
Пожатие плеч и улыбка не раздражили Левина. «Что ж ему больше остается делать?» подумал он.
– Я сейчас пришлю его вам.
– Что это за бессмыслица! – говорил Степан Аркадьич, узнав от приятеля, что его выгоняют из дому, и найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя. – Mais c’est ridicule![91 - [Ведь это смешно!]] Какая тебя муха укусила? Mais c’est du dernier ridicule![92 - [Ведь это смешно до последней степени!]] Что же тебе показалось, если молодой человек…
Но место, в которое Левина укусила муха, видно, еще болело, потому что он опять побледнел, когда Степан Аркадьич хотел объяснить причину, и поспешно перебил его:
– Пожалуйста, не объясняй причины! Я не могу иначе! Мне очень совестно перед тобой и перед ним. Но ему, я думаю, не будет большого горя уехать, а мне и моей жене его присутствие неприятно.
– Но ему оскорбительно! Et puis c’est ridicule.[93 - [Кроме того, это смешно.]]
– A мне и оскорбительно и мучительно! И я ни в чем не виноват, и мне не зачем страдать!
– Ну, уж этого я не ждал от тебя! On peut ?tre jaloux, mais ? ce point, c’est du dernier ridicule![94 - [Можно быть ревнивым, но в такой мере – это смешно до последней степени!]]
Левин быстро повернулся и ушел от него в глубь аллеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он услыхал грохот тарантаса и увидал из-за деревьев, как Васенька, сидя на сене (на беду не было сиденья в тарантасе) в своей шотландской шапочке, подпрыгивая по толчкам, проехал по аллее.
«Это что еще?» подумал Левин, когда лакей, выбежав из дома, остановил тарантас. Это был машинист, про которого совсем забыл Левин. Машинист, раскланиваясь, что-то говорил Весловскому; потом влез в тарантас, и они вместе уехали.
Степан Аркадьич и княгиня были возмущены поступком Левина. И он сам чувствовал себя не только ridicule[95 - [смешным]] в высшей степени, но и виноватым кругом и опозоренным; но, вспоминая то, что он и жена его перестрадали, он, спрашивая себя, как бы он поступил в другой раз, отвечал себе, что точно так же.
Несмотря на всё это, к концу этого дня все, за исключением княгини, не прощавшей этот поступок Левину, сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказанья или большие после тяжелого официального приема, так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишнее событие. И Долли, имевшая от отца дар смешно рассказывать, заставляла падать от смеха Вареньку, когда она в третий и четвертый раз, всё с новыми юмористическими прибавлениями, рассказывала, как она, только что собралась надеть новые бантики для гостя и выходила уж в гостиную, вдруг услыхала грохот колымаги. И кто же в колымаге? – сам Васенька, с шотландскою шапочкой, и с романсами, и с крагами, сидит на сене.
– Хоть бы ты карету велел запрячь! Нет, и потом слышу: «Постойте!» Ну, думаю, сжалились. Смотрю, посадили к нему толстого Немца и повезли… И бантики мои пропали!..
XVI.
Дарья Александровна исполнила свое намерение и поехала к Анне. Ей очень жалко было огорчить сестру и сделать неприятное ее мужу; она понимала, как справедливы Левины, не желая иметь никаких сношений с Вронским; но она считала своею обязанностью побывать у Анны и показать ей, что чувства ее не могут измениться, несмотря на перемену ее положения.
Чтобы не зависеть от Левиных в этой поездке, Дарья Александровна послала в деревню нанять лошадей; но Левин, узнав об этом, пришел к ней с выговором.
– Почему же ты думаешь, что мне неприятна твоя поездка? Да если бы мне и было это неприятно, то тем более мне неприятно, что ты не берешь моих лошадей, – говорил он. – Ты мне ни разу не сказала, что ты решительно едешь. А нанимать на деревне, во-первых, неприятно для меня, а главное, они возьмутся, но не довезут. У меня лошади есть. И если ты не хочешь огорчить меня, то ты возьми моих.
Дарья Александровна должна была согласиться, и в назначенный день Левин приготовил для свояченицы четверню лошадей и подставу, собрав ее из рабочих и верховых, очень некрасивую, но которая могла довезти Дарью Александровну в один день. Теперь, когда лошади нужны были и для уезжавшей княгини и для акушерки, это было затруднительно для Левина, но по долгу гостеприимства он не мог допустить Дарью Александровну нанимать из его дома лошадей и, кроме того, знал, что двадцать рублей, которые просили с Дарьи Александровны за эту поездку, были для нее очень важны; а денежные дела Дарьи Александровны, находившиеся в очень плохом положении, чувствовались Левиными как свои собственные.
Дарья Александровна по совету Левина выехала до зари. Дорога была хороша, коляска покойна, лошади бежали весело, и на козлах, кроме кучера, сидел конторщик вместо лакея, посланный Левиным для безопасности. Дарья Александровна задремала и проснулась, только подъезжая уже к постоялому двору, где надо было переменять лошадей.
Напившись чаю у того самого богатого мужика-хозяина, у которого останавливался Левин в свою поездку к Свияжскому, и побеседовав с бабами о детях и со стариком о графе Вронском, которого тот очень хвалил, Дарья Александровна в 10 часов поехала дальше. Дома ей, за заботами о детях, никогда не бывало времени думать. Зато уже теперь, на этом четырехчасовом переезде, все прежде задержанные мысли вдруг столпились в ее голове, и она передумала всю свою жизнь, как никогда прежде, и с самых разных сторон. Ей самой странны были ее мысли. Сначала она думала о детях, о которых, хотя княгиня, а главное Кити (она на нее больше надеялась), обещала за ними смотреть, она всё-таки беспокоилась. «Как бы Маша опять не начала шалить, Гришу как бы не ударила лошадь, да и желудок Лили как бы еще больше не расстроился». Но потом вопросы настоящего стали сменяться вопросами ближайшего будущего. Она стала думать о том, как в Москве надо на нынешнюю зиму взять новую квартиру, переменить мебель в гостиной и сделать шубку старшей дочери. Потом стали представляться ей вопросы более отдаленного будущего: как она выведет детей в люди. «Девочек еще ничего, – думала она, – но мальчики?»
«Хорошо, я занимаюсь Гришей теперь, но ведь это только оттого, что сама я теперь свободна, не рожаю. На Стиву, разумеется, нечего рассчитывать. И я с помощью добрых людей выведу их; но если опять роды»… И ей пришла мысль о том, как несправедливо сказано, что проклятие наложено на женщину, чтобы в муках родить чада. «Родить ничего, но носить – вот что мучительно», подумала она, представив себе свою последнюю беременность и смерть этого последнего ребенка. И ей вспомнился разговор с молодайкой на постоялом дворе. На вопрос, есть ли у нее дети, красивая молодайка весело отвечала:
– Была одна девочка, да развязал Бог, постом похоронила.