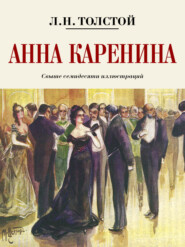По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Четвертая русская книга для чтения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял, – и то годится покрыться ночью.
С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.
Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «Поди, полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, – когда нужно, кличут: «Иван, Иван!» – а которые все, как на зверя, косятся.
Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернется либо обругает. Был еще у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин только, когда он в мечеть приходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано, бородка и усы подстрижены, – белые, как пух; а лицо сморщенное и красное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые и зубов нет – только два клыка. Идет, бывало, в чалме своей, костылем подпирается, как волк, озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернется.
Пошел раз Жилин под гору – посмотреть, где живет старик. Сошел по дорожке, видит садик, ограда каменная; из-за ограды – черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он ближе; видит – ульи стоят, плетенные из соломы, и пчелы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше, посмотреть, и загремел колодкой. Старик оглянулся – как визгнет; выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.
Пришел старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяип Жилина, сам смеется и спрашивает:
– Зачем ты к старику ходил?
– Я, – говорит, – ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живет.
Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.
Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушел старик.
Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:
– Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку – богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, – я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал. – Смеется, сам приговаривает по-русски: «твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!»
4
Прожил так Жилин месяц. Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тер, и прокопал он под стеной дыру, что спору пролезть. «Только бы, – думает, – мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».
Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошел после обеда за аул на гору, – хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:
– Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!
Стал его Жилин уговаривать.
– Я, – говорит, – далеко не уйду, – только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти – ваш народ лечить. Пойдем со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.
Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору – не далеко, а с колодкой трудно; шел, шел, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни, за горой, лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора – еще круче, а за той горой еще гора. Промеж гор лес синеется, а там еще горы всё выше и выше поднимаются. А выше всех – белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат – всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну, – думает, – это все ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно, – бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через нее еще две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: так точно, в этой долине должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.
Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых – алые; в черных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться, – маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое – крепость русская.
Уж поздно стало. Слышно – мулла прокричал. Стадо гонят – коровы ревут. Малый все зовет: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.
Вернулись они домой. «Ну, – думает Жилин, – теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были темные – ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они – гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришел мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мертвым.
Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их еще татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:
– Алла! (значит бог) – Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся. Опять поднял голову мулла:
– Алла! – и все проговорили: «Алла» – и опять замолчали. Мертвый лежит на траве, не шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мертвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки, да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.
Притащил ногаец камышу зеленого, заклали камышом яму, живо засыпали землей, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.
– Алла! Алла! Алла! – Вздохнули и встали.
Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошел домой.
Наутро видит Жилин – ведет красный кобылу за деревню, а за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, – ручищи здоровые, – вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошел рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать – кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.
Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвертый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек 10, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи еще темные были.
«Ну, – думает Жилин, – нынче бежать надо», и говорит Костылину. А Костылин заробел.
– Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.
– Я знаю дорогу.
– Да и не дойдем в ночь.
– А не дойдем – в лесу переночуем. Я вот лепешек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо, пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые – за то, что ихнего русские убили. Поговаривают – нас убить хотят.
Подумал, подумал Костылин.
– Ну, пойдем.
5
Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть, и сидяг они – ждут, чтобы затихло в ауле.
Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину: «Полезай». Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была – пестрая собака, и злая-презлая; звали ее Уляшин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Уляшин, – забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.
Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гайть! Гайть! Уляшин! «
А Жилин за ушами почесывает Уляшина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает.
Посидели они за углом. Затихло все; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно; звезды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.
Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!»
Тронулись; только отошли, слышат – запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрахман!» Значит – пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло.
– Ну, с богом! – Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой, да низом стоит, а над головой ввезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки – стоптались, Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да ва звезды поглядывает. Стал Костылин отставать.
– Тише, – говорит, – иди; сапоги проклятые, все ноги стерли.
– Да ты сними, легче будет.
Пошел Костылин босиком – еще того хуже: изрезал все ноги по камням и все отстает. Жилин ему говорит:
– Ноги обдерешь – заживут, а догонят – убьют – хуже.