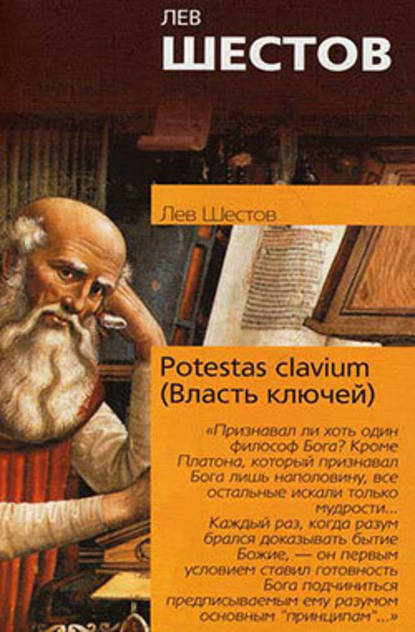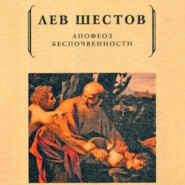По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Potestas clavium (Власть ключей)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По заведенному тысячелетнему обычаю, они обставляют каждое новое свое утверждение торжественнейшими обрядами – они не просто выбирают себе по вкусу, что им сейчас нравится, они приобщаются к незыблемой и абсолютной истине, дают обеты вечного ей служения, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что еще вчера они давали такие же торжественные и нерушимые клятвы истине прямо противоположной и, по-видимому, нимало не подозревая, – люди существа очень близорукие, и это не случайное их свойство, а основной предикат их сущности, – что завтра им вновь придется менять своего господина, как не подозревает Дон-Жуан, что ему придется вновь изменить своей возлюбленной, хотя он уже десятки раз менял женщин. Людям скучно долго носиться с одной истиной, у людей истины, как женщины, быстро старятся и теряют свою привлекательность.
Так что на этот раз мне как будто бы удалось не только выставить, но и доказать свое утверждение. Дальше уже пойдет не так доказательно – и это в порядке вещей. Раз мы выбираем себе истины, где уж тут что-нибудь докажешь?! Молодость – великодушна, старость – скаредна. Богатые консервативны и непредприимчивы – им бы только сберечь накопленное. Голь, как известно, хитра на выдумки и т. д.
Сейчас в России великодушие престижем не пользуется. Т. е. по-прежнему его хвалят все, им кичатся все, и больше всего, конечно, кричат о нем те, которые все хотят забрать и присвоить себе. Старая ростопчинская шутка о том, что в Европе бунтует мужик, которому захотелось быть барином, а у нас бунтует барин, задумавший в мужики идти, уже к России неприменима. В этом отношении мы совсем оевропеились: барин хочет остаться барином и очень зорко следит за тем, как бы мужик не урвал кусочек барского добра. Есть и теперь кающиеся дворяне, но они каются не в том, что слишком много взяли у мужика, а в том, что не успели вовремя взять все, что можно было. Ясно, что юность России уже проходит, и хотя ей до седых волос еще далеко, но она начала усваивать себе старческую мудрость. Когда-то мы спешили на выучку к Европе, теперь у нас только и говорят о том, что нужно быть самобытными и освободиться от иноземного духовного гнета. На деле мы никогда еще не принимали так много у Запада, как сейчас, и, наоборот, в ту пору, когда у нас процветала западническая фразеология, мы были особенно своеобразны. Европейцы прежде совершенно не понимали нашей молодежи, европейцы были ошеломлены речами Достоевского и Толстого. Теперь и молодежь у нас оевропеилась, и на смену Толстому и Достоевскому пришли идеологи существующего – совсем как в Европе. Еще, правда, они стесняются быть европейцами и употребляют некоторые старые слова. Но это ненадолго. Скоро и слова станут употребляться с той цинической откровенностью, которая свойственна зрелым людям, принимающим только то, что видно глазам, и презирающим мечтания.
Я нарочно взял для начала пример простой, понятной переменчивости. На наших глазах люди побросали старые истины и на их место поставили новые. И это сделали с таким видом, точно старые истины не были никогда истинами, а только казались истинами, будто им никогда не клялись в вечной верности, новые же устанавливаются впервые и уже окончательно in s?cula s?culorum. Конечно, через двадцать – двадцать пять лет с новыми вечными истинами будет поступлено так же, как и с их вечными предшественницами: они будут свалены в кучу где-нибудь на черном дворе и уступят свои места и предикаты вечности и неизменности истинам самоновейшим. Я думаю, что эту вечную истину следует как можно чаше повторять, так как с ней невероятно трудно освоиться. Человеческая «природа» всем существом своим протестует против нее и «с тех пор как стоит мир» всячески ее от себя гонит. Ибо, – говорят нам, – если принять ее, то придется согласиться, что где-то, на какой-то черте сглаживаются все различия между добром и злом, истиной и ложью, правотой и виновностью. Никто никогда не может сказать про себя, что он добр, что он прав, что он в истине.
Нужно, однако, заметить, что, как ни боятся люди такого признания, но, по-видимому, оно с большей или меньшей неотступностью преследует всех сколько-нибудь думавших о первых и последних вещах – de novissimis. Приняло же человечество притчу о фарисее и мытаре, о блудном сыне. Слышало оно слова: не судите, и тоже принуждено было принять. Но как же правому, доброму, обретшему истину человеку – каким и был фарисей в притче – не судить? Ведь мытарь – злой, неправый, не знающий истины человек! Как не благодарить мне Бога за то, что я не таков, как этот мытарь? Можно не радоваться богатству, успехам, почестям, но не радоваться своим добродетелям ведь преступно?! Допустить, что мытарь лучше или хоть не хуже нас, – это значит отказаться и от истины, и от добра, и от правоты, неразлучной с истиной и добром. Можно пойти на это? Можно признать справедливым, что отец больше обрадовался блудному сыну, покинувшему его и потом вернувшемуся, чем сыну верному, никогда его не покидавшему? Разве такое признание не равнозначаще отказу и от добра, и от истины? Человечество давно уже остановилось и сейчас стоит пред трудной дилеммой. И каждый раз как будто пытается наново решить ее, но в конце концов все же решает по способу Сократа. Когда людям приходится выбирать между непостижимой истиной откровения и «понятными» утверждениями эллинской мудрости, они хотя и после колебаний, но всегда склонялись на сторону последней. Сколько ни толковало европейское человечество о вере, как страстно оно ни стремилось к ней, оно все же не могло победить в себе прирожденного неверия. Оно говорило о вере, но искало знания и понимания. Филон, первый сделавший попытку приобщить западное человечество к явившемуся на востоке откровению, правильно почувствовал, что есть только один путь, один способ привлечь греко-римский мир к истине Библии: убедить его, что истина находится в полном соответствии с учениями эллинской философии. Он знал, что даже Богу не поверят европейцы, пока Он не представит достаточных доказательств своих божественных прав. И Филон впервые заговорил о разумности библейского учения. Его ?????, взятый им у греческих философов, стал излюбленнейшим мотивом аргументации всех дальнейших христианских апологетов.
Логос греческой философии, ее вечный разум уже целиком заключен в данном на Синае откровении. Бог разумен, сущность Бога – разум: это было обязательным условием успеха новой веры. Греко-римский мир ждал от откровения не новой, дотоле не известной истины. Он хотел только нового, авторитетного, не допускающего уже никаких сомнений подтверждения истины ему известной. С Синая, говорил язычникам Филон, Бог возвестил ту же истину, которую вам восхваляли как единую разумную ваши прославленные мудрецы – Сократ, Платон, Аристотель. Это, по-видимому, был единственный способ провести Библию в Европу. Впоследствии часто говорили, что философия была прислужницей теологии – ancilla teologi?. И не только говорили, но и думали так. На самом же деле произошло обратное. Европа приняла восточную теологию на одном непременном условии – вечной покорности уже задолго до того созданной философии. Вовсе не случайно Аристотель назывался pr?cursor Christi in naturalibus[49 - Предшественник Христа в естественном (лат.).] и считался, да и сейчас считается, у католиков философом ???’ ???????. Католичество не могло и не хотело просто верить. Оно все боялось, что оно того и гляди попадется впросак – поверит не тому, кому нужно верить, и не так, как нужно. Прежде чем верить, оно спрашивало, cui est credendum, кому поверить? У кого спрашивало? Кто возьмет на себя столь невыносимое бремя ответственности, кто даст ответ на столь страшный вопрос?! Восток – родина религий – предлагал не только Библию, – как решить и кому решить, в какой из восточных книг заключено настоящее откровение? Решение Филона показалось в высшей степени соблазнительным: откровение не должно идти вразрез с эллинским разумом, с ?????’ом. Конечно, такое решение имело роковое значение для дальнейшего развития католичества. На самом деле Библия, и Ветхий и Новый Завет, менее всего отвечали тем требованиям, которые разум предъявляет к истине. В этих загадочных книгах закон противоречия – первое условие истинности всякого утверждения – прямо игнорировался. Больше того, можно сказать, что греческая философия, по самому существу своему, исключала возможность ветхозаветного и новозаветного откровения. И у Аристотеля, и у Платона мы встречаем утверждение, что вся философия родилась ???? ?? ?????????, из удивления, и в этом многие готовы были видеть намек на допустимость по крайней мере откровения. Но едва ли это верно. Платоново-аристотелевское удивление есть только пытливость, не больше. Всякая же пытливость является как следствие нарушения духовного равновесия и потому всегда сопровождается потребностью восстановления равновесия. Платон задает вопросы, с тем чтобы получить ответы. И получает, что ему нужно. Оттуда и его девиз: ??????? ????????????? ??????? – геометрия должна предшествовать философии. Это величайший завет эллинской мудрости, доныне свято оберегаемый всеми без исключения философами. Философия должна быть строгой наукой – она должна все объяснить, без остатка. И теология в этом отношении никогда не хотела и не могла отстать от философии. Ватиканский собор уже в новейшее время подтверждает, что вера не может быть противоразумна, что она должна согласоваться с разумом. «Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit, Deus autem negare se ipsum non possit nec verum vero unquam contradicere» (Cap. IV, de fide et ratione).[50 - Хотя вера и сверхразумна, однако никакой истинной распри между верой и разумом быть не может: ибо тот же самый Бог, который являет чудеса и внушает веру, внес в человеческую душу свет разума, а Бог не мог бы отрицать самого себя и, конечно же, не мог бы себе противоречить (лат.) (пер. С.С. Неретиной).] Европейское человечество выбрало себе из шедших с востока учений то, которое оно умело согласовать со своими нуждами и духовными навыками, и приняло лишь в той обработке, которая соответствовала этим нуждам и навыкам. И в этом, собственно, состоит та эллинизация католичества, о которой так много и охотно говорят современные протестантские богословы. Европа, когда ей пришлось выбирать между верой, пришедшей из чуждых стран, и разумом, который она вырастила у себя, недолго колебалась. Если она и приняла веру, то лишь подвергши ее предварительно самому строгому испытанию. Естественно, что разум сохранил свое владычество во всю историю развития католичества. Новейшие протестантские ученые – либеральное богословие – воображают, что они менее эллинизированы, чем средневековые монахи. Но это только один из многих возвышенных обманов, которыми себя наше время тешит, как тешили и другие времена. И Гарнак, и Лоофс, и Трельч, и французские модернисты, так близко подошедшие к немецкой либеральной теологии, насквозь пропитаны эллинизмом, – до такой степени пропитаны, что даже потеряли способность отличать эллинизм от своей подлинной, человеческой сущности. Им кажется, что быть самим собой и быть эллином – это все равно. И какая бы истина ни прошла мимо них, она будет им немила, если она хоть сколько-нибудь оскорбит их новую эллинизированную природу. Они ждут, чтоб истина благословила то, с чем они сроднились, что они полюбили. И если истина не отвечает их надеждам, они ее отвергают, они убежденно принимают ее за ложь. Гарнак уверенно объясняет в своей «Dogmengeschichte», что человечество две тысячи лет работало для того, чтобы доразвиться до того богопонимания, которое принято сейчас немецким либеральным протестантизмом. В этом он, верный ученик Гегеля, совершенно серьезно видит «смысл истории»! Еще раз повторяю: не по хорошу мил, а по милу хорош. Мы выбираем себе истины – это общее правило. В виде редких исключений приходится наблюдать случаи, когда не мы выбираем истины, а истины выбирают нас. Случаи эти, однако, так исключительно редко встречаются, что теории познания с ними совершенно не считаются и не могут считаться. Ибо условия знания – это условия неизменно и всегда существующие (т. е. на самом деле почти неизменно и почти всегда, но мы умеем от этих «почти» очень легко отделываться), – если погнаться за редкими исключениями, никакой теории не построишь.