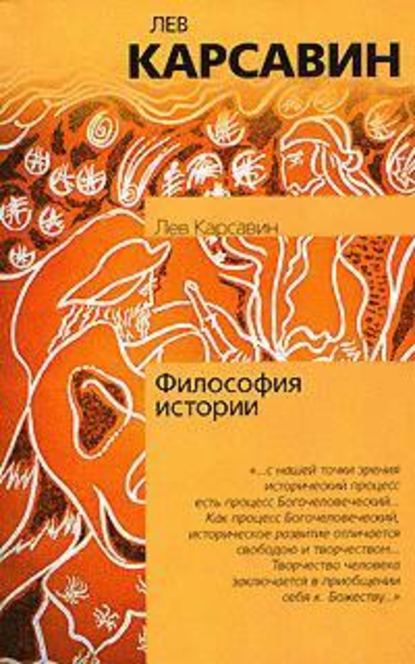По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Философия истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
12
Проблема взаимодействия двух субъектов приводит нас к проблеме индивидуальности или личности.
До сих пор мы выяснили понятия всеединого субъекта и его моментов или качествований, причем, с одной стороны, качествования должны рассматриваться тоже как моменты, всеединые в своих (вторичных) качествованиях или моментах, а, с другой стороны, всеединый субъект должен рассматриваться как момент высшего всеединого субъекта. При таком положении дела естественно возникает вопрос: отличается ли субъект, признаваемый нами (в пределах его душевного процесса) и личностью, от моментов и не являются ли и они субъектами-личностями. Надо ли различать моменты-качествования от моментов-индивидуальностей, моментов-личностей? И если они различаются, то чем именно? В чем критерий различности?
Сознавая себя индивидуальностью или личностью, я, во-первых, сознаю себя качествующим во всех моих моментах и каждое качествование считаю самим собою, независимо от того, что иные качествования должны быть охарактеризованы как «мои» собственно, другие – как «данные» мне, «бывшие» моими или в части своей являющиеся моими (например – инстинктивные, даже рефлективные состояния моего сознания – § 5). Во-вторых, сознавая себя личностью, я «отличаю» себя от всего «чужого», т. е. данного мне и относимого мною (не в смысле субъективного полагания, а в смысле объективной принудительности) к иному субъекту или объекту. Различие между моим в широком смысле слова, т. е. собственно «моим», и моим «данным мне», с одной стороны, и «чужим» мне, с другой, вполне реально и субъективно неоспоримо. Но ничто не гарантирует меня от ошибок.
Действительно, такие ошибки нередко в моей душевной жизни и обнаруживаются. При сходстве момента-качествования с моментом-личностью, в том случае, когда первый сам многообразно качествует, для подобной ошибки достаточно спутать «данное мне мое» с «данным мне чужим». Ведь момент-качествование моей личности как раз и отличается тем, что в нем нет относимости к иному субъекту, признака чужеродности, присущего всякому чужому качеству во мне. Предположим, что я, по той либо иной причине, воспринимаю многообразное мое качествование, например – «совокупность» моих осязательных «восприятий», и отношу их к иному субъекту, т. е. сознаю их не только данными, но и чужими. В нормальном состоянии я воспринимаю их только данными, но сверх того в них воспринимаю и чужое. Теперь, в состоянии ненормальном, я утратил грань между моим и чужим, все – и чужое и данное – слив в одну массу и признав за чужое. Это возможно потому, что я, познавая совокупность моих осязательных восприятий, сам уже качествую в иных «восприятиях» и, качествуя в них, не сознаю в себе, как стяженном моем всеединстве, восприятий осязательных, т. е. менее, чем обычно, стяженно-всеедин. Тогда, очевидно, я буду воспринимать все мое осязательное качествование относимым к иному субъекту, не познавая, что этот субъект и есть я сам; произойдет раздвоение личности. Так и объясняет всякое раздвоение личности Жанэ, исходя не из теории, а из попытки объяснить богатый собранный им и другими материал наблюдений. И мы можем, вместе с Жанэ, понять смысл того, что подобные раздвоения личности наблюдаются у истеричных, страдающих анестезиею особ в сомнамбулическом состоянии, когда анестезия исчезает. Живущий вне сомнамбулического состояния в ограниченном качествовании субъект неожиданно, под влиянием гипноза, оказывается в неведомом ему качествовании. Его самосознание изменилось, расширилось. Но он помнит о себе, совсем иначе себя сознающем. Для этого «первого» его «я» или самосознания теперешнее, «сомнамбулическое» качествование было совсем недоступным, было и есть нечто чужое, принадлежащее «второму» я, которое, в большинстве случаев, укоренено в двуединстве его с личностью гипнотизера. Первое я даже не знало о втором. Второе знает первое, но воспринимает его так же, как воспринимает чужое сознание вообще.
На чем покоится описанная ошибка? – Во-первых, – на отсутствии в воспринимаемом прошлом своем самосознании признака принадлежности его мне: в нем познается только «данное мне» и «чужое». Во-вторых, – на всепоглощающем сознании чужеродности, т. е. стоящего за данным и чужим иного субъекта, иной личности. Я познаю мою иначе качествующую личность, но свое взаимоотношение с нею сознаю не как двуединство мое, а как двуединство, высшее чем я, такое же, какое лежит в основе познания мною чужих личностей. Это происходит потому, что я (во втором моем самосознании) не улавливаю стяженного моего всеединства, как диалектически развивающегося в первую личность.
Заметим, что существуют и в «раздвоении личности» любопытные различия по степени противопоставленности одного самосознания другому. Иногда иное самосознание просто только «иное»; иногда – «он» или «она»; иногда – иной человек, вызывающий сожаление, получающий имя. Если взять всю градацию противопоставленности, болезни «раздвоения личности» и ряд случаев «сумасшествия» неуловимыми переходами сближаются с более «нормальными» случаями. В аскетизме, с его острым ощущением данных инстинктивных влечений, «похоти», «гордыни» и т. п., мы нередко встречаемся с персонификацией их. Так предполагается и реально переживается вызывающий похоть «бес». Так само тело начинает обладать личными свойствами – «разумом плоти» – или превращается в особую субстанцию. С другой стороны, не следует относиться как к простым метафорам, к словам о рождении в душе нового человека, о новом рождении и т. п. И нам вполне понятно подозрительное отношение к рассказам про общение с духами, с высшими силами и личностями.
Все эти случаи поясняют и подтверждают наш тезис. Субъективно личность определяется сознанием «своего» в противопоставлении «чужому». Но рассмотренные и многие другие ошибки способны настроить довольно скептически. – При бесконечном потенциально разнообразии качествований личности, из которых лишь незначительная часть эмпирически нам ведома, где и в чем можно найти критерий для точного отличения ее от других? Конечно, можно сослаться на связанность моего с моим телом, чужого с телом иного субъекта. Но явная связанность с данным телесным организмом вовсе не столь уже объемлет все качествования данной личности. Для наиболее важных и интересных нам качествований ее установить чаще всего не удается. В области «коллективных личностей» этот критерий применим еще менее, историку же «коллективные личности» особенно интересны. Есть и еще одна трудность. – С помощью субъективного критерия я могу разобраться в моей душевности. Но могу ли я ручаться за то, что моменты-качествования моей личности не являются еще и индивидуальностями, тоже личностями? Отсутствие критерия и приводит к склонности многих метафизиков понимать всякую клетку организма, как особую, хотя бы зачаточную, личность, высшими по отношению к клеткам и низшими по отношению к человеку личностями считать органы, системы органов и т. д. По существу это не разнится от персонификации всякого моего качествования.
Сознавая себя личностью, я, как это ясно в противопоставлении мною себя другим личностям и в познании их, являюсь моментом высшего всеединства. Есть ли это всеединство личность? – Конечно, ибо иначе нечем объяснить персонификацию ее во мне и других личностях. Она – двуединая, многоединая, всеединая личность, но все же личность. Это значит, что в ней есть аналогичное моему самосознание и – ввиду несовершенства тварного всеединства – надо полагать, стяженное. Отличая себя от других индивидуальностей, я не отличаю себя от нее так же, как от них. Я сознаю себя ею, но не как высшею для меня личностью, а как, во-первых, ее во мне персонификациею, и как, во-вторых, неопределенностью. И может она стать для меня определенною лишь чрез противопоставление ее другим таким же, как и она, личностям, т. е. через мое противопоставление другим таким же, как я, моментам этих других высших личностей. Если моя высшая личность, во мне индивидуализирующаяся, есть моя социальная группа, я постигаю ее, группу, как личность, только чрез противопоставление себя членам других социальных групп. Но, конечно, и такое постижение личности весьма несовершенно, пока я не утратил моего ограниченного самосознания.
Если возможно хотя бы и очень несовершенное познание высшей личности и если реально наше различение между моментами-качествованиями и моментами-личностями, мы, рассуждая a priori, можем найти критерий в анализе высшей индивидуальности. Ведь и в ней могут быть и личности, одной из которых являюсь я сам, и качествования. Если в ней есть качествования, но вместе с тем не личности, эти качествования существуют в ее моментах-личностях. Иначе говоря, тогда во мне должны находиться качествования с признаками принадлежности их не только мне, а и высшей личности, и присутствия их не только во мне, а и в других индивидуальностях моего порядка. Эти качествования должны быть не только моими, но и ее качествованиями, потому что иначе они были бы самим мною и только мною ограниченным. Будучи же ее качествованиями, они должны отличаться признаком общности, моим качествованиям не присущим.
К такому «общему» мы уже подходили, когда рассматривали вопрос об отвлеченно-общем или формально-общем (§ 9). Мое познавание, как специфический и в то же время общий всем людям акт, конечно, есть акт моей личности, и в этом смысле он качественно и по содержанию только ей и свойственен. Но он есть и общий акт, т. е. качествование в моей индивидуальности высшей индивидуальности, которое по-разному индивидуализируется во мне и во всяком другом человеке. Точно так же качествованиями высших индивидуальностей во мне будут этические мои устремления и оценки, правовые эмоции и влечения, бытования мои, социальные чувствования, например – патриотический подъем, революционное настроение и т. п. Некоторые из этих качествований в основе своей должны быть возводимы к Абсолютному, другие – к разным высшим индивидуальностям, в разной степени от меня отстоящим (семья, социальная группа, народ, культура, человечество, космос). В связи с этим стоит и разная степень их принудительности, обязательности и непреодолимости для меня.
Теперь, по-видимому, мы приобрели некоторый критерий. Момент-личность характеризуется тем, что во всеединстве своем, как личность, не содержит общего, но является безусловным многообразием. Момент-качествование есть общее во всех моментах и предполагает индивидуализирующуюся в них качествующую в нем личность.
Возьмем конкретный пример. – Совокупность осязательных ощущений, «чувство осязания», есть качествование моей личности. Оно всеедино, т. е. выражается в конкретном множестве своих моментов; и, тем не менее, каждый из них обладает чем-то общим, позволяющим отличить чувство осязания от всякого другого чувства. Всякий момент его (вторичный момент) есть качествование самой моей личности; их всеединство (чувство осязания) или первичное качествование моей личности – стяженное единство их. Однако если бы оно было только единством, оно бы не содержало в себе признака общности, ясно выделяемого при сопоставлении его с самосознанием души (§ 5). То же обстоятельство, что оно обладает еще признаком чего-то и «чужого», трудно, правда, уловимого самонаблюдением, но отмеченного языком («меня охватила грусть» и т. п.), дает ключ к объяснению общности. В чувстве, сам чувствуя (осязая, видя, грустя или радуясь), я качествую некоторым общим всем людям качествованием, или: во мне качествует, индивидуализируясь, человек, или: мы оба, а вернее – все люди качествуем одним качествованием, по-разному в каждом из нас индивидуализирующимся. Это и есть то «чутье», благодаря которому возможна ошибка в случаях раздвоения личности (§ 11).
Еще пример. – Находясь в толпе, я внезапно, вместе со всеми другими испытываю пароксизм паники. Я сознаю его как силу высшей, более могучей, чем я, личности, что особенно ясно, когда я пытаюсь ей противостоять. Это опять качествование высшей личности, хотя и возникшей на несколько мгновений во мне и в других, устанавливаемое мною, как чужеродное, и непосредственно и благодаря сопоставлению с паникою окружающих. Или еще. – В момент напряженной деятельности я вдруг ощущаю: «все равно! не стуит!» и, ощутив, узнаю в этом качество русского человека, общее мне с другими моими соотечественниками.
Но не устраняет ли новая наша теория старой – теории всеединства? – Нисколько. Всякое качествование высшей индивидуальности есть и мое в силу совершенно особенного нашего взаимоотношения. Оно общее как ее момент, для меня (не для нее самой): оно общим кажется снизу. Оно мое как специфическое – как стяженное единство моих спецификаций. Мой момент есть мое качествование, но, как мое, он – стяженное всеединство моих в нем вторичных качествований; поскольку же в нем есть общее, он – и качествование высшей индивидуальности.
Остается последнее затруднение. – Не может ли в нашей душе быть моментов как стяженных единств, независимых от высших индивидуальностей? И не будут ли они тогда ничем не отличными от нашей личности, кроме обманчивого субъективного критерия? Я отвечаю на эти вопросы решительным отрицанием. Стяженность моментов вторичных в момент первичный, «частное всеединство» во всеединой душе не может существовать вне общего, т. е. вне качествования высшей индивидуальности. Это частное всеединство – «реакция» индивидуальной души на воздействие высшей. Во всеединой душе все моменты равнозначны и равноценны и все одинаково полны и едины в ней.
Однако, идя по этому пути, пожалуй, придешь к отрицанию индивидуальности, ибо всякая личность – момент высшей. Я полагаю, что такой опасности нам не грозит. Признавая свою личность всеединством, я признаю всякий момент ее единственным и неповторимым. Если же моя личность раскрывается в них, она не становится чем-то отвлеченно или формально-общим: каждый из них вся она. Разумеется, она общее, как личность, подобная другим; но потому, что само Наивысшее Бытие есть принцип личности, и так, что она не только есть, а и не есть. Она иерархически ниже той, которую индивидуализирует. Но только в порядке ограниченности и стяженности мира она представляется временно или пространственно низшею. В усовершенном всеединстве принцип иерархии нечто безмерно превышающее то, что мы под ним разумеем. Некоторое пояснение дает всеединство души.
Наконец, момент не индивидуальность именно потому, что он момент, одно качествование; индивидуальность же – всеединство своих моментов.
Так мы приходим к определению момента-качественности как единообразности, а в стяженности бытия еще как общности и укорененности не в себе, а в личности. Личность же есть всеединство и безусловное многообразие, хотя и осуществляет себя в причастии качествованиям высших личностей. В этом смысле личность есть нечто абсолютно установленное, не создаваемое и не порождаемое другою личностью, но только качествующее другими и индивидуализирующее их качествования. Таков смысл богословского утверждения того, что всякая душа творится Богом; и таков же последний, самый глубокий мотив разъединенности монад у Лейбница. Разъединенность превозмогается только смертью, тем, что всякая личность и есть и не есть, и рождается, и погибает, и воскресает, т. е. бессмертна чрез смерть.
13
Абсолютное Бытие, рассматриваемое в отношении к Нему созидаемого Им из ничто, тем самым из ничто свободно возникающего и обожаемого Им, делаемого Им Собою мира, есть абсолютное совершенное Всеединство. Оно – все, что только существует, все и всяческое. И во всяческом, в каждом Оно все, ибо всяческое не что иное, как Его момент, в Нем полный и совершенный. Абсолютное Всеединое не простая данность или совершенство, не «actus purus».[15 - Чистый акт (лат.).] Оно и акт и потенция, и «esse» и «posse».[16 - Бытие, возможность (лат.).] Оно совершенное «Possest», как говорил Николай Кузанский. Оно еще и становление, указуемое в слове «Possest» общею «posse» и «esse» буквою «е». Оно совершеннейшее единство возможности-становления-действительности, и в целостности своей и в каждом из своих моментов.
Познавая Абсолютное в противопоставлении Его нам, а себя как приемлющих от Него все, что есть в нас, мы тем самым познаем Его, как абсолютную Благость. И космос, моментом которого мы являемся, должен, как создание абсолютной Благости, быть полным и совершенным образом и подобием Ее, более того – Ею самой. Иначе Она не абсолютна. – Созидаемый из ничто космос получает от Творца полноту Его бытия, Его самого. Именно потому он не только пассивно получает Бога, но и свободно, активно Его приемлет и завоевывает. Бог его делает Собою, а он собою делает Бога. Один и тот же акт является, если рассматривать его со стороны Бога, актом творения Богом мира и человека из ничто, а если рассматривать его со стороны мира и человека – свободным актом приятия ими завоевываемого ими Бога. Лучше всего этот двуединый акт, неотличный, конечно, от совершающих его Бога и космоса (человека) назвать термином теофания.
Однако, в качестве созидаемого-возникающего свободно из ничто, в качестве получившего начало, начавшего быть и, следовательно, конечного, космос не в силах стать бесконечным, т. е. Богом. Для этого нужно, чтобы бесконечная Благость чрез самооконечивание, чрез особое соединение свое с космосом сделала Себя и конечною, космос – и бесконечным. Таким образом, космос (и человек) может стать и становится Богом или Абсолютным. В Боге и для Бога он – возможность-становление-действителвность второго Бога, сущего чрез излияние в него и гибель в нем Бога Творца, не сущего в свободной самоотдаче себя Богу Истинному и гибели в Нем, когда не сущий Бог есть и Бог Творец, как не сущий. Он Бог и вне творения Им мира. Это приближает нас к истинному пониманию Абсолютности, возвышающейся над ее логическим, тварным определением, как необусловленности. Абсолютность есть и логически-тварная абсолютность, и абсолютность неопределимая, и первая творческая абсолютность, и абсолютность, превышая, объемлющая первую и тварность. В этом нет и тени пантеизма, ибо, поскольку мир существует, мир не Бог, а иное и, в качественной самобытности своей, ничто, поскольку же он – Бог, он – производное, созидаемое из ничто и приемлемое Богом. В этом нет и умаления Бога, которое присуще всем видам дуализма. – Абсолютность выше нашего разумения, выше нашего понятия об абсолютном, полагаемом в необходимом противостоянии относительному. Абсолютность Божества такова, что Бог есть и Божественное Всеединство без чего-либо иного, т. е. еще без Космоса, и самоограничение и самоуничтожение Божественности в свободно завоевывающем Ее космосе, и превозможение иного во всецелом его обожении, приятии его в Себя, и Божественное Всеединство уже без тварности.
Итак, космос (и его момент – человек) – совершенное всеединство, как единство своей возможности со своими усовершением и усовершенностью. Он возникает свободно по зову Бога, Богу противостоит, Богом становится, Его поглощая, и в Боге погибает, поглощаемый Им. Космос – совершенное всеединство и в целом своем и в каждом из моментов своих. Однако, как свободно становящийся Богом, т. е. как могущий приять Бога и в полноте и в неполноте, участняя, космос – возможность ущербленности, умаленности своего совершенства. И он не только возможность умаленности себя или в себе Бога, а и действительность такой умаленности, «грешный», «виновный», «отпавший» и «караемый» в своей же реальной умаленности Богом космос. Он – дурная бесконечность становления своего совершенством, всеединство не только несовершенное, а и бесповоротно несовершенное, уже не ставшее совершенным. Правда, это несовершенство, эта роковая, бесповоротная неусовершенность космоса, как чистая недостаточность, есть только его несовершенство и для Бога и в Боге не существует: в Боге нет стяженности и потенциальности всеединства. Но для того, чтобы в Боге и для Бога, при вольной неусовершенности космоса, существовала его вольная и реальная усовершенность, требуемая абсолютностью Благости, необходимо преодоление этого несовершенства, восполнение не могущего быть восполненным силами космоса. И такое восполнение, возможное лишь как особый акт Абсолютного, должно быть в то же самое время и актом самого космоса. Это достигается тем, что Абсолютное делается самою неусовершенностью мира, абсолютирует ограниченность эмпирии, становящуюся из иллюзии реальностью, и чрез единение с несовершенным, осуществляет цель абсолютной Благости. Чрез самооконечение Абсолютное делает конечный космос и бесконечным, т. е. вмещающим полноту Бесконечности. Чрез приятие в Себя и претворение в Себя следствия вольной косности мира, факта неусовершенности его (но не самой вольной косности, которая есть лишь недостаток воли и потому может быть преодолена или искуплена), чрез приятие кары, но не вины мира Абсолютное преодолевает косность и позволяет твари ее преодолеть, преображает ее в полноту свободного устремления. Чрез бытийствование иллюзии бытия – неусовершенность становится реальностью.
Необходимо допустить, что усовершенный космос уже и всегда существует в Боге и для Бога, существует как реальность наивысшая, что уже и всегда усовершены все мы. Но это не устраняет реального бытия неусовершенности, как момента тварно-греховного совершенства, напротив, реальность неусовершенности – момент усовершенности. И совершенный космос есть еще и космос, неполный в его единстве и разъединенности, неполный, стяженный и потенциальный в своем всеединстве.
Не притязаю на полную для всякого убедительность и даже полную понятность всего здесь высказанного. Но, не имея возможности в данной работе развить и обосновать основные свои идеи, я все же считаю нелишним в общих чертах их выразить в надежде на некоторых, более глубокомысленных читателей и на будущее их более обстоятельное изложение. Позволю себе только несколькими намеками подчеркнуть связь моих общих метафизических положений с предшествующим и последующим изложением.
Неполное, неусовершенное и несовершенное всеединство есть всеединство стяженное и потенциальное, как в целом – в завершенности, – так и в каждом моменте. Неполный момент характеризуется прежде всего неполнотою, неосуществленностью своего стремления в Абсолютное. Поэтому он в актуализованности своей противостоит своей идеальности, как абсолютному заданию. Поэтому он движется от актуального и реального своего настоящего в еще нереальное для него будущее, в неведомое. И в силу несовершенства его стремление его в будущее, делая его из ничто, из небытия в данном (будущем) качествовании бытием в нем, сопровождается утратою им себя самого настоящего: его становление бытием есть и умирание его, приобретение им абсолютного Бытия есть и отдача себя Ему, ибо только в абсолютном Бытии «вечная память», только Оно есть Бог не мертвых, а живых.
Но раз момент не актуализует себя всецело, он, в качестве стяженного всеединства, не выражает в себе целиком все прочие моменты. Он, не выражая ни одного из них целиком, всех их выражает в различной, определяемой иерархическим положением своей качественности во всеединстве, степени. И рост его актуализации, сказываясь в осуществлении еще не актуализованного будущего и новых для эмпирической действительности моментов, сказывается также в осуществлении в нем и актуализованных уже моментов – в их «припоминании».
Как стяженное всеединство, как несовершенное всеединство, момент не обладает полным единством себя с другими моментами: его единство с ними потенциально. Он «воспринимает» их как «иное» и «чужое», не «сознавая», что они лишь иные качествования его самого, как высшего, как всеединства. Разъединенность при смутном «сознании» и осуществленности единства (и осуществленности в пространстве и времени, превышающих время и пространство данного ограниченного момента) характеризует несовершенный момент. И степень разъединенности растет по мере того, как от отношения данного момента к другим моментам той же высшей индивидуальности переходим к его отношению к моментам других высших и более далеких от него индивидуальностей. Стяженное всеединство момента полнее и яснее актуализируется в качестве ближайшего высшего субъекта, чем в качестве дальнейшего. Но противопоставляя себя другим моментам того же высшего субъекта, момент ему самому себя в достаточной мере не противопоставляет: его он сознает как себя самого, отожествляет себя с ним в его стяженности и потенциальной неразличенности. Эта потенциальная неразличенность и является высшим бытием во всех пантеистических системах.
Не обладая полнотою единства с прочими моментами, данный, в особой качественности своей, не обладает и полною противопоставленностью им. Он, как стяженное всеединство, не весь в своем качествовании. Он должен быть и этим качествованием и всеми другими, т. е. все качествования должны перестать быть в нем, а он перестать быть в них. На самом деле, он не достигает ни полноты данного качествования, ибо в нем лишь погибают, но не могут погибнуть всецело прочие, ни полноты других качествований, ибо только погибает и не может до конца погибнуть в них. Та же неполнота характеризует данный момент, как это качествование в нем самом.
В модусе познавательной актуализации все это должно выразиться следующим образом. – Познающий себя в своем особом качествовании и в своем всеединстве момент сознает себя некоторым стяженным и смутным единством. С одной стороны, он в глубине своей видит иррациональную стихию, сознаваемую им как источник всего; с другой – видит распад этой стихии на разъединенный мир и распад себя самого, как особого качествования. Для него неизбежно признание факта разъединенности – рациональное разложение себя и мира на обособленные элементы, убивание-разъятие себя и мира, познавательное отражение онтологически необходимой смерти. Но для него неизбежно и признание факта единства всего разъединенного, которое без единства не может существовать и быть познаваемо. Только сознавая это единство, он познает его как стяженное, неразличенное, потенциальное, как символизируемое общим понятием. Оно для него единство в смысле первичного хаоса, праотца или праматери всего сущего, и единство в смысле отвлеченной идеи. При таком понимании он вынужден стяженно выражать реальное единство чрез ипостазирование отвлеченной идеи в отъединенную систему, силу, сущность, когда рассматривает мир в целом или совокупность моментов, чрез низведение ее до степени таинственной причиняющей силы, когда рассматривает взаимодействие двух или, вообще, немногих моментов. Так получаются понятия причинности, системы, изменения, которые вовсе не фикции разума и не реальность, но реальность в ее умалении.
Глава вторая
Границы истории. Исторический субъект и его моменты
14
Высшею задачею исторического мышления является познание всего космоса, всего тварного всеединства как единого развивающегося субъекта. В этом смысле весь мир в его целом – объект исторического изучения. Но мир в целом изучается философией, которая в своих методах должна быть преимущественно «исторической» как в постижении непрерывного развития, так и в объяснении разъединенного бытия, изучаемого как таковое другими науками. Отграничить историю от всех прочих наук только по методу невозможно. – Исторический метод не применим не только в математике и физике, но и в геологии и в естествознании вообще: неприменим везде, где остается непреодоленного пространственно-временная разъединенность. Методы естествознания не что иное, как умаление исторического метода, вполне законное в тех пределах, которыми естествознание себя определяет, и преодолеваемое лишь философией, пользующейся не только историческими категориями, но еще и другими, высшими, историческому познанию чуждыми и в прочих науках по-иному, чем исторические, умаляемыми. Метод истории не отделим от исторического бытия, от того, что называют материалом истории, и само историческое познание не что иное, как один из моментов исторического бытия (§ 1).
История в узком и точном смысле этого слова усматривает и изучает развитие там, где оно полнее всего обнаруживается. А оно обнаруживается в материально-пространственном бытии не сразу, с большим трудом и при помощи определенных метафизических положений, бессознательно и безотчетно выставляемых философски необразованными естественниками, систематически и обоснованно – философией. Здесь, в области разъединенного бытия, для исторического понимания необходимо подняться над пространственной внеположностью, голая наличность которой исключает само применение понятия развития. Разумеется, подняться не значит отвергнуть (почему естествознание никогда и не может раствориться в истории). Но пока этого подъема не произошло, исторический момент в естествознании случаен и ведет к весьма неудовлетворительным схемам и построениям. Да его и не должно быть в чистом естествознании. Объяснение мира не дело естественника, а дело философа, который и должен, взамен неудачных попыток понять «историю» из «природы», понять «природу» из «истории» в ее усовершенности.
Есть две «преимущественно» или «собственно» исторических области: область развития отдельной личности и область развития человечества.
Изучение развития отдельной личности не имеет ничего общего с так называемой научной психологией (§ 5). Историческая наука об индивидуальной душе является до сих пор еще объектом смутных чаяний; конкретно же она осуществляется главным образом в области художественного творчества.
Своего рода историческими трудами являются автобиографии, такие – чтобы указать на лучшие образцы – как «Confessiones» Августина, «Confessions» Руссо, самоописания Кардано и Гёте. В них автор научно исследует собственное свое развитие, исходя из момента написания, в нем и чрез него понимая весь процесс и этот процесс оценивая с точки зрения абсолютного (или ошибочно абсолютированного) идеала. Именно такую оценку и такое понимание принято считать недостатком, субъективизмом. При этом забывают, что всякий историк поступает точно таким же образом, только с большею бессознательностью и меньшею очевидностью. Сам по себе, подход автобиографа к своей жизни является не умалением, а прибылью «научности». Тем, что автобиограф рассматривает свою жизнь с определенной точки зрения, он не искажает действительности, а познает ее единственно возможным способом – как осуществление и раскрытие всеединства его личности в данном моменте. Не выбрав себе точки зрения, ничего увидеть нельзя; вопрос лишь в том, удачно ли она выбрана, правильно ли понят и уяснен центральный момент. И тут, конечно, возможны самые разнообразные ошибки, как возможны они и во всяком историческом и вообще во всяком исследовании. Автор может ограниченно понять себя самого, неправильно оценить себя и, следовательно, все моменты развития. Он может, далее, многое не вспомнить (но разве историк знает все факты?), многое вспомнит неточно (но разве знание историка всегда отличается точностью?), многое вольно или невольно присочинит (но разве этим не грешны величайшие мастера истории? разве историки никогда не подделывали документов?). Во всякой автобиографии «Wahrheit» слита с «Dichtung».[17 - Wahrheit – истина, правда; Dichtung – поэзия (нем.). Имеется в виду название автобиографического сочинения Гёте.] Но что такое «Dichtung»? – Иногда это слово означает лишь более глубокое, обычно свойственное художнику (§ 5) понимание действительности: иногда (и реже) – собственно измышление. Но в последнем случае «Dichtung» только средство к символическому (§ 10) изъяснению того, что не получило реального осуществления.
Право, трудно понять скептическое отношение к автобиографиям. Предполагается обычно, что автор хочет показать себя с хорошей стороны. Для большинства автобиографий это неверно. А с другой стороны, разве не хочет блеснуть своим талантом историк? И разве он не ценит того настоящего, из которого и с точки зрения которого он оценивает и понимает прошлое? Предполагают, что труднее всего понять и оценить себя самого – опять необоснованная предпосылка и странное убеждение, что историк правильно понимает и оценивает свою эпоху. Единственно, чем не обладает автобиография, так это ученым аппаратом: она не пользуется «вспомогательными науками» – эпиграфикой, палеографией, сфрагистикой, дипломатикой и т. д. Но, слава Богу, я не настолько подвержен фетишизму научности, чтобы, посыпая солью кушанье, предварительно с помощью химического анализа определять, не сахар ли это. Автобиография является одним из наиболее ярких примеров и наиболее удачных применений исторического метода (я не говорю о ней, как о виде исторического источника, необходимом и нуждающемся в определенном к нему подходе со стороны историков коллективных индивидуальностей). Равным образом, к историческим исследованиям надо отнести и биографию, как историю индивидуальной души.
Третий вид истории души дается нам художественной литературой. Казалось бы, это утверждение, равняющее художественное творчество с «точною наукою» и напоминающее о притязаниях некоторых романистов на научный роман (вспомним Бальзака, Золя, в последнее время, Бурже, у нас – общественные тенденции литературы и Глеба Успенского), само ни на какую обязательность притязать не может. К тому же, в данной связи мы должны оставить в стороне всякие «социальные тенденции» и ограничить себя «психологическим романом», к величайшему нашему огорчению «солидаризируясь» с Бурже. – Художник «сочиняет» личность своего героя и его развитие, «выдумывает» фабулу, внешнюю обстановку. За ним готовы признать право на какую-то «художественную правду»; но, в чем эта правда заключается, никто толком рассказать не умеет. – Прежде всего настоящий художник никогда «личности» не сочиняет, а в произведении не «настоящего» вообще никакой: ни подлинной, ни воображаемой или сочиненной, личности нет. Исходным моментом художественного творчества всегда является усмотрение некоторой реальной личности. Иногда это вполне показавшая себя в деятельности, конкретно осуществившаяся личность, вынуждающая художника стать в положение портретиста. Иногда это личность, не раскрывшая всего в ней заложенного, не осуществившая наиболее ценного, что она могла осуществить. Иногда это собственная личность художника в тех своих потенциях, которые им не раскрыты в действительной жизни. Но всегда это конкретная индивидуальность, объективно им наблюденная. Интуитивно познав объективно-реальную личность, художник познает ее как живую идею. Он отдается ее диалектике, улавливает природу ее в ее возможных обнаружениях. По самому существу дела, он лишен возможности познать и сделать познаваемою для других усмотренную им реальность иначе как символически – через указание ее действительных или возможных актуализаций. Но действительных у него нет, как есть они у историка: остается сфера возможностей, в которой он и творит, руководимый и связанный диалектикой постигнутой им личности. Иного способа познания и изображения у него нет и быть не может. Но смысл даваемого им совсем не в «измышленном», а в том, что «измышляемым» характеризуется, что с помощью его познаваемо. Познаваема же с помощью «измышляемого» объективная историческая реальность (ср. § 10).
Тут обнаруживаются интереснейшие аналогии с историческим методом в сфере того, что называется собственно историей. – Историк часто страдает от недостатка фактических данных. Он стремится к возможно большей индивидуализации и конкретизации познаваемого. Он «вычитывает» из текста всегда более того, на что текст его уполномочивает. Описание характера исторического героя, его наружности, описание сражения или процессии, народного собрания или заседания парламента всегда конкретнее, чем говорящие о них свидетельства современников. Разве таким было коронование Карла Великого, каким мы, историки, его себе представляем и изображаем? Разве есть у нас право на такое точное изображение Клермонского собора или уличных эпизодов Великой Французской Революции, какое вытекает из наших описаний? Можно порицать К. Жюллиана за то, что при изображении одной из битв Ганнибала он позволяет себе говорить о лучах солнца, игравших на вооружении воинов: нам неизвестно, не было ли небо в описываемый момент покрыто облаками. Но не надо ли тогда порицать и одного из представителей ультра-строгой научности, усмотревшего задачу историка в сообщении читателю только «de textes bien nettoyйs»[18 - «Хорошо очищенные тексты» (фр.).]Ланглуа, если он, описывая ночные свидания Людовика Святого с его молодой женой на лестнице, конкретно их себе и читателю представляет и даже позволяет себе видеть в них единственный романтический период в жизни французского короля? Убедившись в существовании общего первоисточника для двух или нескольких дошедших до нас источников, историк не останавливается на этом. Он стремится таинственный источник реконструировать, определить его дату и автора, и – не верьте его словам! – вовсе не для того, чтобы сделать свои утверждения более обоснованными, а (по крайней мере – в большинстве случаев) совсем по иной причине. В этом «художественном» моменте исторической работы объяснение того факта, что» многие романисты, не обладая даром измышления фабулы, «опираются на сюжет» или лучше всего проявляют свой талант в произведениях исторического характера (А. Франс, А. де Ренье), а многие историки становятся и романистами (Эберс, Ф. Дан). Здесь же, в острой тяге к конкретно-индивидуальному, один из корней (конечно, не единственный) исторических подлогов (Макферсон, Ганка).
Не видеть в истории «измышленного» нельзя, и не может существовать история, как наука, без «измышления». Если попытаться его из истории устранить, надо будет свести исторические труды к хронологическим таблицам, перечням фактов и собраниям текстов и строго запретить авторам прибегать к каким бы то ни было литературным приемам изложения. И то еще останется много воображаемого, так как само установление дат, фактов и понимания текстов уже является историческою работою. Всякое наблюдение возможно только на основе некоторой «апперцепирующей массы», пронизано примыслами, и ходячие примеры из области свидетельских показаний указывают лишь на очень малую долю измышляемого. А ведь и от них теоретики отделываются только смутной и необоснованной надеждой на то, что истина все-таки как-то устанавливаема. Как же тогда сохранить историю, не отвергая ее «научности?» – С традиционной точки зрения это невозможно, с нашей – вовсе не трудно. Художественно-творческая конкретизация исторической действительности должна быть понимаема как применение символического метода. Важно не то, что встреча папы Стефана II с королем Пипином Коротким произошла именно так, как мы ее себе представляем. Может быть, конкретная обстановка ее была существенно иною. Но важно, что несомненно бывшая встреча в существе своем выразима и познаваема с помощью нашей конкретизации, как выразима и познаваема она и с помощью некоторых других конкретизации. Мы придаем значение не самой конкретности и стремимся к ней не ради ее самой, а ради выражаемого ею, без нее нам недоступного. Разумеется, в этом известное несовершенство нашего знания. И конечно, конкретизация не должна противоречить тому, что доподлинно известно: историк более связан, чем художник. Ненужная конкретизация, подобная приведенным выше декламациям К. Жюллиана и Ланглуа, столь же нетерпима в истории, как и ложная, т. е. противоречащая известному. Но мы готовы простить Маколею недостаточную его почтительность к «достоинству» истории за то, что ему удалось нарисовать верную картину прошлого. И с меньшим, чем то обычно делается, скептицизмом надо отнестись к «речам» у древних историков, которые, как и их читатели, великолепно знали, что не эти речи на самом деле произносились. Следует быть строгим и точным; не следует быть педантом.
Историческое познание своей или чужой личности в ее развитии и достоверно и ценно, как в автобиографии и биографии, так и в художественном опознании ее через символическое построение и в обычном жизненном понимании ее (§ 10). Однако надо считаться с тем, что нет личности, качествующей только собою, отъединенной от других таких же, как она, личностей, от высших индивидуальностей: общества, культуры, человечества. В этом смысле сосредоточение в биографии или автобиографии только на личности всегда условно, насильственно, делает их неисторическими в полном и широком смысле этого слова. И понятно, что некоторые историки и теоретики (Эдуард Мейер) возражают против отнесения биографии в область истории. Они правы, поскольку биограф рассматривает своего героя вне всего исторического развития. Но так поступают только плохие биографы. – История индивидуальности неуловимо и неизбежно переходит в историю вообще. Данная личность рассматривается «в связи» с ее эпохою, т. е. в смысле в ней качествующей и индивидуализирующейся и тем себя раскрывающей эпохи. (ср. Дильтеево «Жизнеописание Шлейермахера»). Личность индивидуализирует тенденции эпохи, национальности, культуры: она для них «показательна», символична, характерна. Она часто «типична», потому что тип и есть яркая индивидуализация стяженно-всеединого. Она типична или в личном своеобразии ее или в отдельных, особенно ясно выражаемых ею качествованиях. Но в личности получают выражение и конкретизацию и высшие, чем национальность или культура, моменты, хотя и в качествовании моментов, к ней ближайших. – Мышление какого-нибудь философа не только выражает его личность: оно конкретизирует и индивидуализирует абсолютную истину в постижении ее человечеством. И то же самое надо сказать о религиозном, этическом, эстетическом качествовании каждого человека. Без понимания всего этого, конечно, невозможна никакая история личности.
В зависимости от того – на чем преимущественно сосредоточено внимание исследователя: на особой ли качественности данной личности, ей только свойственной, или на показательности и типичности этой качественности и на проявлении в личности высших индивидуальностей, биография более или менее исторична. Она, говоря обычнее, тем более переходит в историю, чем более личность «поставлена в связь» с движениями ее среды, времени, культуры и с общими проблемами человеческого духа. Но если не исторична биография при сосредоточении на только индивидуальном, то нет и истории без биографии, хотя в эмпирической историографии, конечно, и неизбежно так или иначе ограничить сферу своего изучения.
История индивидуальной души не только один из моментов истории. Как наиболее конкретное и, можно сказать, единственно конкретное, индивидуальное развитие оказывается наиболее пригодным для установления и анализа основных исторических понятий. – В индивидуальной конкретно-развивающейся душе полнее и яснее всего вскрывается строение всеединства, чем мы и воспользовались в первой главе. Путем ее анализа удается установить понятия всеединства, момента, стяженности, завершенности и совершенства, равно – выяснить и «взаимодействие» моментов и индивидуальностей. И только на основе этого анализа можно до конца понять и объяснить, что такое историческая коллективная индивидуальность, субъект исторического развития, момент его, историческое взаимодействие и т. д. Дело тут не в аналогизировании исторического индивидуально-историческому, не в гипотетическом перенесении на исторический процесс найденного в индивидуально-историческом. Анализ самого исторического приводит к тем же основным положениям,[19 - С этой точки зрения написана мною небольшая брошюра – «Введение в историю (Теория истории)»; из серии «Введение в науку. История», в. I. Петр., 1921.] но он не позволяет достичь такой же степени конкретности, «осязаемости». В изучении индивидуально-конкретного развития мы находим не повторение отвлеченного закона или отвлеченной формы. В нем, как в моменте всеединого развития мы изучаем и познаем само это развитие. Возможность же отвлеченного «построения», отвлеченной формулировки покоится на своеобразном отношении между качествующею в индивидуумах высшею индивидуальностью и ими, как ее моментами (§ 12).
С этой точки зрения, важно, что индивидуальное развитие не только являет нам общее «строение» всеединства. Оно являет также порядок развития индивидуальности, т. е., говоря более конкретно и несколько условно, позволяет развитие периодизировать. Детство, отрочество, зрелость и старость характерны не только для данной индивидуальности, но и для всякой другой индивидуальности того же порядка. Они характерны для всех людей и являются качествующими во всяком человеке моментами всеединого человека. И тут возникает чрезвычайно важный для теории истории вопрос: должны ли они в каком-то отношении быть характерными и для исторических коллективных индивидуальностей? Мне кажется, что положительный ответ вытекает из самой идеи всеединства.
Периоды или возрасты жизни индивидуума являются качествованиями в нем всеединого человека, т. е. соответствуют аналогичным периодам в конструируемом нами отвлеченном понятии человека, которое не только есть условное общее понятие, символизирующее его как стяженное всеединство в нас, но и обосновано в качестве формально общего (§§ 9, 12). Однако человек не непосредственно индивидуализируется в конкретных личностях: всякая конкретная личность качествует более близкою к ней его индивидуализацией. Она – момент его момента, некоторого ограниченного всеединства, т. е. определенной социальной группы, нации (поскольку нация является моментом Человека), определенной коллективной индивидуальности. Эта индивидуальность есть сам Человек в одной из его индивидуализации и реальна только в «составляющих» ее индивидуумах. Поэтому и в ней, как во всех «промежуточных» между индивидуумом и Человеком индивидуальностях, должны быть те же периоды или моменты. Таково общее, принципиальное положение. Чтобы его конкретизировать, чтобы определить, как должно понимать периоды или «возрасты» высших индивидуальностей, необходимо прежде всего развитое учение об исторических коллективных личностях и их взаимоотношениях и возможное лишь на почве его усмотрение общего (не только общечеловеческого) в «возрастах» самого индивидуума. Пока дальше принципиальной постановки этой проблемы, которая является частью или моментом проблемы об «исторических законах», идти мы не вправе.
15
Содержание истории – развитие человечества, как всеединого, всепространственного и всевременного субъекта. «Субъект» и «развитие» не отделимы друг от друга иначе как условно. Однако, если субъект не вне содержимого им в себе и являющегося им самим эмпирического процесса, нет оснований предполагать, что он целиком в эмпирии, как она осуществляется и познается нами. Может быть, даже наверное, мы познаем ее не целиком, как не целиком осуществляем. Может быть, многое в ней потому нам и непонятно, что мы не учитываем непознаваемой нами реальности.
Проблема взаимодействия двух субъектов приводит нас к проблеме индивидуальности или личности.
До сих пор мы выяснили понятия всеединого субъекта и его моментов или качествований, причем, с одной стороны, качествования должны рассматриваться тоже как моменты, всеединые в своих (вторичных) качествованиях или моментах, а, с другой стороны, всеединый субъект должен рассматриваться как момент высшего всеединого субъекта. При таком положении дела естественно возникает вопрос: отличается ли субъект, признаваемый нами (в пределах его душевного процесса) и личностью, от моментов и не являются ли и они субъектами-личностями. Надо ли различать моменты-качествования от моментов-индивидуальностей, моментов-личностей? И если они различаются, то чем именно? В чем критерий различности?
Сознавая себя индивидуальностью или личностью, я, во-первых, сознаю себя качествующим во всех моих моментах и каждое качествование считаю самим собою, независимо от того, что иные качествования должны быть охарактеризованы как «мои» собственно, другие – как «данные» мне, «бывшие» моими или в части своей являющиеся моими (например – инстинктивные, даже рефлективные состояния моего сознания – § 5). Во-вторых, сознавая себя личностью, я «отличаю» себя от всего «чужого», т. е. данного мне и относимого мною (не в смысле субъективного полагания, а в смысле объективной принудительности) к иному субъекту или объекту. Различие между моим в широком смысле слова, т. е. собственно «моим», и моим «данным мне», с одной стороны, и «чужим» мне, с другой, вполне реально и субъективно неоспоримо. Но ничто не гарантирует меня от ошибок.
Действительно, такие ошибки нередко в моей душевной жизни и обнаруживаются. При сходстве момента-качествования с моментом-личностью, в том случае, когда первый сам многообразно качествует, для подобной ошибки достаточно спутать «данное мне мое» с «данным мне чужим». Ведь момент-качествование моей личности как раз и отличается тем, что в нем нет относимости к иному субъекту, признака чужеродности, присущего всякому чужому качеству во мне. Предположим, что я, по той либо иной причине, воспринимаю многообразное мое качествование, например – «совокупность» моих осязательных «восприятий», и отношу их к иному субъекту, т. е. сознаю их не только данными, но и чужими. В нормальном состоянии я воспринимаю их только данными, но сверх того в них воспринимаю и чужое. Теперь, в состоянии ненормальном, я утратил грань между моим и чужим, все – и чужое и данное – слив в одну массу и признав за чужое. Это возможно потому, что я, познавая совокупность моих осязательных восприятий, сам уже качествую в иных «восприятиях» и, качествуя в них, не сознаю в себе, как стяженном моем всеединстве, восприятий осязательных, т. е. менее, чем обычно, стяженно-всеедин. Тогда, очевидно, я буду воспринимать все мое осязательное качествование относимым к иному субъекту, не познавая, что этот субъект и есть я сам; произойдет раздвоение личности. Так и объясняет всякое раздвоение личности Жанэ, исходя не из теории, а из попытки объяснить богатый собранный им и другими материал наблюдений. И мы можем, вместе с Жанэ, понять смысл того, что подобные раздвоения личности наблюдаются у истеричных, страдающих анестезиею особ в сомнамбулическом состоянии, когда анестезия исчезает. Живущий вне сомнамбулического состояния в ограниченном качествовании субъект неожиданно, под влиянием гипноза, оказывается в неведомом ему качествовании. Его самосознание изменилось, расширилось. Но он помнит о себе, совсем иначе себя сознающем. Для этого «первого» его «я» или самосознания теперешнее, «сомнамбулическое» качествование было совсем недоступным, было и есть нечто чужое, принадлежащее «второму» я, которое, в большинстве случаев, укоренено в двуединстве его с личностью гипнотизера. Первое я даже не знало о втором. Второе знает первое, но воспринимает его так же, как воспринимает чужое сознание вообще.
На чем покоится описанная ошибка? – Во-первых, – на отсутствии в воспринимаемом прошлом своем самосознании признака принадлежности его мне: в нем познается только «данное мне» и «чужое». Во-вторых, – на всепоглощающем сознании чужеродности, т. е. стоящего за данным и чужим иного субъекта, иной личности. Я познаю мою иначе качествующую личность, но свое взаимоотношение с нею сознаю не как двуединство мое, а как двуединство, высшее чем я, такое же, какое лежит в основе познания мною чужих личностей. Это происходит потому, что я (во втором моем самосознании) не улавливаю стяженного моего всеединства, как диалектически развивающегося в первую личность.
Заметим, что существуют и в «раздвоении личности» любопытные различия по степени противопоставленности одного самосознания другому. Иногда иное самосознание просто только «иное»; иногда – «он» или «она»; иногда – иной человек, вызывающий сожаление, получающий имя. Если взять всю градацию противопоставленности, болезни «раздвоения личности» и ряд случаев «сумасшествия» неуловимыми переходами сближаются с более «нормальными» случаями. В аскетизме, с его острым ощущением данных инстинктивных влечений, «похоти», «гордыни» и т. п., мы нередко встречаемся с персонификацией их. Так предполагается и реально переживается вызывающий похоть «бес». Так само тело начинает обладать личными свойствами – «разумом плоти» – или превращается в особую субстанцию. С другой стороны, не следует относиться как к простым метафорам, к словам о рождении в душе нового человека, о новом рождении и т. п. И нам вполне понятно подозрительное отношение к рассказам про общение с духами, с высшими силами и личностями.
Все эти случаи поясняют и подтверждают наш тезис. Субъективно личность определяется сознанием «своего» в противопоставлении «чужому». Но рассмотренные и многие другие ошибки способны настроить довольно скептически. – При бесконечном потенциально разнообразии качествований личности, из которых лишь незначительная часть эмпирически нам ведома, где и в чем можно найти критерий для точного отличения ее от других? Конечно, можно сослаться на связанность моего с моим телом, чужого с телом иного субъекта. Но явная связанность с данным телесным организмом вовсе не столь уже объемлет все качествования данной личности. Для наиболее важных и интересных нам качествований ее установить чаще всего не удается. В области «коллективных личностей» этот критерий применим еще менее, историку же «коллективные личности» особенно интересны. Есть и еще одна трудность. – С помощью субъективного критерия я могу разобраться в моей душевности. Но могу ли я ручаться за то, что моменты-качествования моей личности не являются еще и индивидуальностями, тоже личностями? Отсутствие критерия и приводит к склонности многих метафизиков понимать всякую клетку организма, как особую, хотя бы зачаточную, личность, высшими по отношению к клеткам и низшими по отношению к человеку личностями считать органы, системы органов и т. д. По существу это не разнится от персонификации всякого моего качествования.
Сознавая себя личностью, я, как это ясно в противопоставлении мною себя другим личностям и в познании их, являюсь моментом высшего всеединства. Есть ли это всеединство личность? – Конечно, ибо иначе нечем объяснить персонификацию ее во мне и других личностях. Она – двуединая, многоединая, всеединая личность, но все же личность. Это значит, что в ней есть аналогичное моему самосознание и – ввиду несовершенства тварного всеединства – надо полагать, стяженное. Отличая себя от других индивидуальностей, я не отличаю себя от нее так же, как от них. Я сознаю себя ею, но не как высшею для меня личностью, а как, во-первых, ее во мне персонификациею, и как, во-вторых, неопределенностью. И может она стать для меня определенною лишь чрез противопоставление ее другим таким же, как и она, личностям, т. е. через мое противопоставление другим таким же, как я, моментам этих других высших личностей. Если моя высшая личность, во мне индивидуализирующаяся, есть моя социальная группа, я постигаю ее, группу, как личность, только чрез противопоставление себя членам других социальных групп. Но, конечно, и такое постижение личности весьма несовершенно, пока я не утратил моего ограниченного самосознания.
Если возможно хотя бы и очень несовершенное познание высшей личности и если реально наше различение между моментами-качествованиями и моментами-личностями, мы, рассуждая a priori, можем найти критерий в анализе высшей индивидуальности. Ведь и в ней могут быть и личности, одной из которых являюсь я сам, и качествования. Если в ней есть качествования, но вместе с тем не личности, эти качествования существуют в ее моментах-личностях. Иначе говоря, тогда во мне должны находиться качествования с признаками принадлежности их не только мне, а и высшей личности, и присутствия их не только во мне, а и в других индивидуальностях моего порядка. Эти качествования должны быть не только моими, но и ее качествованиями, потому что иначе они были бы самим мною и только мною ограниченным. Будучи же ее качествованиями, они должны отличаться признаком общности, моим качествованиям не присущим.
К такому «общему» мы уже подходили, когда рассматривали вопрос об отвлеченно-общем или формально-общем (§ 9). Мое познавание, как специфический и в то же время общий всем людям акт, конечно, есть акт моей личности, и в этом смысле он качественно и по содержанию только ей и свойственен. Но он есть и общий акт, т. е. качествование в моей индивидуальности высшей индивидуальности, которое по-разному индивидуализируется во мне и во всяком другом человеке. Точно так же качествованиями высших индивидуальностей во мне будут этические мои устремления и оценки, правовые эмоции и влечения, бытования мои, социальные чувствования, например – патриотический подъем, революционное настроение и т. п. Некоторые из этих качествований в основе своей должны быть возводимы к Абсолютному, другие – к разным высшим индивидуальностям, в разной степени от меня отстоящим (семья, социальная группа, народ, культура, человечество, космос). В связи с этим стоит и разная степень их принудительности, обязательности и непреодолимости для меня.
Теперь, по-видимому, мы приобрели некоторый критерий. Момент-личность характеризуется тем, что во всеединстве своем, как личность, не содержит общего, но является безусловным многообразием. Момент-качествование есть общее во всех моментах и предполагает индивидуализирующуюся в них качествующую в нем личность.
Возьмем конкретный пример. – Совокупность осязательных ощущений, «чувство осязания», есть качествование моей личности. Оно всеедино, т. е. выражается в конкретном множестве своих моментов; и, тем не менее, каждый из них обладает чем-то общим, позволяющим отличить чувство осязания от всякого другого чувства. Всякий момент его (вторичный момент) есть качествование самой моей личности; их всеединство (чувство осязания) или первичное качествование моей личности – стяженное единство их. Однако если бы оно было только единством, оно бы не содержало в себе признака общности, ясно выделяемого при сопоставлении его с самосознанием души (§ 5). То же обстоятельство, что оно обладает еще признаком чего-то и «чужого», трудно, правда, уловимого самонаблюдением, но отмеченного языком («меня охватила грусть» и т. п.), дает ключ к объяснению общности. В чувстве, сам чувствуя (осязая, видя, грустя или радуясь), я качествую некоторым общим всем людям качествованием, или: во мне качествует, индивидуализируясь, человек, или: мы оба, а вернее – все люди качествуем одним качествованием, по-разному в каждом из нас индивидуализирующимся. Это и есть то «чутье», благодаря которому возможна ошибка в случаях раздвоения личности (§ 11).
Еще пример. – Находясь в толпе, я внезапно, вместе со всеми другими испытываю пароксизм паники. Я сознаю его как силу высшей, более могучей, чем я, личности, что особенно ясно, когда я пытаюсь ей противостоять. Это опять качествование высшей личности, хотя и возникшей на несколько мгновений во мне и в других, устанавливаемое мною, как чужеродное, и непосредственно и благодаря сопоставлению с паникою окружающих. Или еще. – В момент напряженной деятельности я вдруг ощущаю: «все равно! не стуит!» и, ощутив, узнаю в этом качество русского человека, общее мне с другими моими соотечественниками.
Но не устраняет ли новая наша теория старой – теории всеединства? – Нисколько. Всякое качествование высшей индивидуальности есть и мое в силу совершенно особенного нашего взаимоотношения. Оно общее как ее момент, для меня (не для нее самой): оно общим кажется снизу. Оно мое как специфическое – как стяженное единство моих спецификаций. Мой момент есть мое качествование, но, как мое, он – стяженное всеединство моих в нем вторичных качествований; поскольку же в нем есть общее, он – и качествование высшей индивидуальности.
Остается последнее затруднение. – Не может ли в нашей душе быть моментов как стяженных единств, независимых от высших индивидуальностей? И не будут ли они тогда ничем не отличными от нашей личности, кроме обманчивого субъективного критерия? Я отвечаю на эти вопросы решительным отрицанием. Стяженность моментов вторичных в момент первичный, «частное всеединство» во всеединой душе не может существовать вне общего, т. е. вне качествования высшей индивидуальности. Это частное всеединство – «реакция» индивидуальной души на воздействие высшей. Во всеединой душе все моменты равнозначны и равноценны и все одинаково полны и едины в ней.
Однако, идя по этому пути, пожалуй, придешь к отрицанию индивидуальности, ибо всякая личность – момент высшей. Я полагаю, что такой опасности нам не грозит. Признавая свою личность всеединством, я признаю всякий момент ее единственным и неповторимым. Если же моя личность раскрывается в них, она не становится чем-то отвлеченно или формально-общим: каждый из них вся она. Разумеется, она общее, как личность, подобная другим; но потому, что само Наивысшее Бытие есть принцип личности, и так, что она не только есть, а и не есть. Она иерархически ниже той, которую индивидуализирует. Но только в порядке ограниченности и стяженности мира она представляется временно или пространственно низшею. В усовершенном всеединстве принцип иерархии нечто безмерно превышающее то, что мы под ним разумеем. Некоторое пояснение дает всеединство души.
Наконец, момент не индивидуальность именно потому, что он момент, одно качествование; индивидуальность же – всеединство своих моментов.
Так мы приходим к определению момента-качественности как единообразности, а в стяженности бытия еще как общности и укорененности не в себе, а в личности. Личность же есть всеединство и безусловное многообразие, хотя и осуществляет себя в причастии качествованиям высших личностей. В этом смысле личность есть нечто абсолютно установленное, не создаваемое и не порождаемое другою личностью, но только качествующее другими и индивидуализирующее их качествования. Таков смысл богословского утверждения того, что всякая душа творится Богом; и таков же последний, самый глубокий мотив разъединенности монад у Лейбница. Разъединенность превозмогается только смертью, тем, что всякая личность и есть и не есть, и рождается, и погибает, и воскресает, т. е. бессмертна чрез смерть.
13
Абсолютное Бытие, рассматриваемое в отношении к Нему созидаемого Им из ничто, тем самым из ничто свободно возникающего и обожаемого Им, делаемого Им Собою мира, есть абсолютное совершенное Всеединство. Оно – все, что только существует, все и всяческое. И во всяческом, в каждом Оно все, ибо всяческое не что иное, как Его момент, в Нем полный и совершенный. Абсолютное Всеединое не простая данность или совершенство, не «actus purus».[15 - Чистый акт (лат.).] Оно и акт и потенция, и «esse» и «posse».[16 - Бытие, возможность (лат.).] Оно совершенное «Possest», как говорил Николай Кузанский. Оно еще и становление, указуемое в слове «Possest» общею «posse» и «esse» буквою «е». Оно совершеннейшее единство возможности-становления-действительности, и в целостности своей и в каждом из своих моментов.
Познавая Абсолютное в противопоставлении Его нам, а себя как приемлющих от Него все, что есть в нас, мы тем самым познаем Его, как абсолютную Благость. И космос, моментом которого мы являемся, должен, как создание абсолютной Благости, быть полным и совершенным образом и подобием Ее, более того – Ею самой. Иначе Она не абсолютна. – Созидаемый из ничто космос получает от Творца полноту Его бытия, Его самого. Именно потому он не только пассивно получает Бога, но и свободно, активно Его приемлет и завоевывает. Бог его делает Собою, а он собою делает Бога. Один и тот же акт является, если рассматривать его со стороны Бога, актом творения Богом мира и человека из ничто, а если рассматривать его со стороны мира и человека – свободным актом приятия ими завоевываемого ими Бога. Лучше всего этот двуединый акт, неотличный, конечно, от совершающих его Бога и космоса (человека) назвать термином теофания.
Однако, в качестве созидаемого-возникающего свободно из ничто, в качестве получившего начало, начавшего быть и, следовательно, конечного, космос не в силах стать бесконечным, т. е. Богом. Для этого нужно, чтобы бесконечная Благость чрез самооконечивание, чрез особое соединение свое с космосом сделала Себя и конечною, космос – и бесконечным. Таким образом, космос (и человек) может стать и становится Богом или Абсолютным. В Боге и для Бога он – возможность-становление-действителвность второго Бога, сущего чрез излияние в него и гибель в нем Бога Творца, не сущего в свободной самоотдаче себя Богу Истинному и гибели в Нем, когда не сущий Бог есть и Бог Творец, как не сущий. Он Бог и вне творения Им мира. Это приближает нас к истинному пониманию Абсолютности, возвышающейся над ее логическим, тварным определением, как необусловленности. Абсолютность есть и логически-тварная абсолютность, и абсолютность неопределимая, и первая творческая абсолютность, и абсолютность, превышая, объемлющая первую и тварность. В этом нет и тени пантеизма, ибо, поскольку мир существует, мир не Бог, а иное и, в качественной самобытности своей, ничто, поскольку же он – Бог, он – производное, созидаемое из ничто и приемлемое Богом. В этом нет и умаления Бога, которое присуще всем видам дуализма. – Абсолютность выше нашего разумения, выше нашего понятия об абсолютном, полагаемом в необходимом противостоянии относительному. Абсолютность Божества такова, что Бог есть и Божественное Всеединство без чего-либо иного, т. е. еще без Космоса, и самоограничение и самоуничтожение Божественности в свободно завоевывающем Ее космосе, и превозможение иного во всецелом его обожении, приятии его в Себя, и Божественное Всеединство уже без тварности.
Итак, космос (и его момент – человек) – совершенное всеединство, как единство своей возможности со своими усовершением и усовершенностью. Он возникает свободно по зову Бога, Богу противостоит, Богом становится, Его поглощая, и в Боге погибает, поглощаемый Им. Космос – совершенное всеединство и в целом своем и в каждом из моментов своих. Однако, как свободно становящийся Богом, т. е. как могущий приять Бога и в полноте и в неполноте, участняя, космос – возможность ущербленности, умаленности своего совершенства. И он не только возможность умаленности себя или в себе Бога, а и действительность такой умаленности, «грешный», «виновный», «отпавший» и «караемый» в своей же реальной умаленности Богом космос. Он – дурная бесконечность становления своего совершенством, всеединство не только несовершенное, а и бесповоротно несовершенное, уже не ставшее совершенным. Правда, это несовершенство, эта роковая, бесповоротная неусовершенность космоса, как чистая недостаточность, есть только его несовершенство и для Бога и в Боге не существует: в Боге нет стяженности и потенциальности всеединства. Но для того, чтобы в Боге и для Бога, при вольной неусовершенности космоса, существовала его вольная и реальная усовершенность, требуемая абсолютностью Благости, необходимо преодоление этого несовершенства, восполнение не могущего быть восполненным силами космоса. И такое восполнение, возможное лишь как особый акт Абсолютного, должно быть в то же самое время и актом самого космоса. Это достигается тем, что Абсолютное делается самою неусовершенностью мира, абсолютирует ограниченность эмпирии, становящуюся из иллюзии реальностью, и чрез единение с несовершенным, осуществляет цель абсолютной Благости. Чрез самооконечение Абсолютное делает конечный космос и бесконечным, т. е. вмещающим полноту Бесконечности. Чрез приятие в Себя и претворение в Себя следствия вольной косности мира, факта неусовершенности его (но не самой вольной косности, которая есть лишь недостаток воли и потому может быть преодолена или искуплена), чрез приятие кары, но не вины мира Абсолютное преодолевает косность и позволяет твари ее преодолеть, преображает ее в полноту свободного устремления. Чрез бытийствование иллюзии бытия – неусовершенность становится реальностью.
Необходимо допустить, что усовершенный космос уже и всегда существует в Боге и для Бога, существует как реальность наивысшая, что уже и всегда усовершены все мы. Но это не устраняет реального бытия неусовершенности, как момента тварно-греховного совершенства, напротив, реальность неусовершенности – момент усовершенности. И совершенный космос есть еще и космос, неполный в его единстве и разъединенности, неполный, стяженный и потенциальный в своем всеединстве.
Не притязаю на полную для всякого убедительность и даже полную понятность всего здесь высказанного. Но, не имея возможности в данной работе развить и обосновать основные свои идеи, я все же считаю нелишним в общих чертах их выразить в надежде на некоторых, более глубокомысленных читателей и на будущее их более обстоятельное изложение. Позволю себе только несколькими намеками подчеркнуть связь моих общих метафизических положений с предшествующим и последующим изложением.
Неполное, неусовершенное и несовершенное всеединство есть всеединство стяженное и потенциальное, как в целом – в завершенности, – так и в каждом моменте. Неполный момент характеризуется прежде всего неполнотою, неосуществленностью своего стремления в Абсолютное. Поэтому он в актуализованности своей противостоит своей идеальности, как абсолютному заданию. Поэтому он движется от актуального и реального своего настоящего в еще нереальное для него будущее, в неведомое. И в силу несовершенства его стремление его в будущее, делая его из ничто, из небытия в данном (будущем) качествовании бытием в нем, сопровождается утратою им себя самого настоящего: его становление бытием есть и умирание его, приобретение им абсолютного Бытия есть и отдача себя Ему, ибо только в абсолютном Бытии «вечная память», только Оно есть Бог не мертвых, а живых.
Но раз момент не актуализует себя всецело, он, в качестве стяженного всеединства, не выражает в себе целиком все прочие моменты. Он, не выражая ни одного из них целиком, всех их выражает в различной, определяемой иерархическим положением своей качественности во всеединстве, степени. И рост его актуализации, сказываясь в осуществлении еще не актуализованного будущего и новых для эмпирической действительности моментов, сказывается также в осуществлении в нем и актуализованных уже моментов – в их «припоминании».
Как стяженное всеединство, как несовершенное всеединство, момент не обладает полным единством себя с другими моментами: его единство с ними потенциально. Он «воспринимает» их как «иное» и «чужое», не «сознавая», что они лишь иные качествования его самого, как высшего, как всеединства. Разъединенность при смутном «сознании» и осуществленности единства (и осуществленности в пространстве и времени, превышающих время и пространство данного ограниченного момента) характеризует несовершенный момент. И степень разъединенности растет по мере того, как от отношения данного момента к другим моментам той же высшей индивидуальности переходим к его отношению к моментам других высших и более далеких от него индивидуальностей. Стяженное всеединство момента полнее и яснее актуализируется в качестве ближайшего высшего субъекта, чем в качестве дальнейшего. Но противопоставляя себя другим моментам того же высшего субъекта, момент ему самому себя в достаточной мере не противопоставляет: его он сознает как себя самого, отожествляет себя с ним в его стяженности и потенциальной неразличенности. Эта потенциальная неразличенность и является высшим бытием во всех пантеистических системах.
Не обладая полнотою единства с прочими моментами, данный, в особой качественности своей, не обладает и полною противопоставленностью им. Он, как стяженное всеединство, не весь в своем качествовании. Он должен быть и этим качествованием и всеми другими, т. е. все качествования должны перестать быть в нем, а он перестать быть в них. На самом деле, он не достигает ни полноты данного качествования, ибо в нем лишь погибают, но не могут погибнуть всецело прочие, ни полноты других качествований, ибо только погибает и не может до конца погибнуть в них. Та же неполнота характеризует данный момент, как это качествование в нем самом.
В модусе познавательной актуализации все это должно выразиться следующим образом. – Познающий себя в своем особом качествовании и в своем всеединстве момент сознает себя некоторым стяженным и смутным единством. С одной стороны, он в глубине своей видит иррациональную стихию, сознаваемую им как источник всего; с другой – видит распад этой стихии на разъединенный мир и распад себя самого, как особого качествования. Для него неизбежно признание факта разъединенности – рациональное разложение себя и мира на обособленные элементы, убивание-разъятие себя и мира, познавательное отражение онтологически необходимой смерти. Но для него неизбежно и признание факта единства всего разъединенного, которое без единства не может существовать и быть познаваемо. Только сознавая это единство, он познает его как стяженное, неразличенное, потенциальное, как символизируемое общим понятием. Оно для него единство в смысле первичного хаоса, праотца или праматери всего сущего, и единство в смысле отвлеченной идеи. При таком понимании он вынужден стяженно выражать реальное единство чрез ипостазирование отвлеченной идеи в отъединенную систему, силу, сущность, когда рассматривает мир в целом или совокупность моментов, чрез низведение ее до степени таинственной причиняющей силы, когда рассматривает взаимодействие двух или, вообще, немногих моментов. Так получаются понятия причинности, системы, изменения, которые вовсе не фикции разума и не реальность, но реальность в ее умалении.
Глава вторая
Границы истории. Исторический субъект и его моменты
14
Высшею задачею исторического мышления является познание всего космоса, всего тварного всеединства как единого развивающегося субъекта. В этом смысле весь мир в его целом – объект исторического изучения. Но мир в целом изучается философией, которая в своих методах должна быть преимущественно «исторической» как в постижении непрерывного развития, так и в объяснении разъединенного бытия, изучаемого как таковое другими науками. Отграничить историю от всех прочих наук только по методу невозможно. – Исторический метод не применим не только в математике и физике, но и в геологии и в естествознании вообще: неприменим везде, где остается непреодоленного пространственно-временная разъединенность. Методы естествознания не что иное, как умаление исторического метода, вполне законное в тех пределах, которыми естествознание себя определяет, и преодолеваемое лишь философией, пользующейся не только историческими категориями, но еще и другими, высшими, историческому познанию чуждыми и в прочих науках по-иному, чем исторические, умаляемыми. Метод истории не отделим от исторического бытия, от того, что называют материалом истории, и само историческое познание не что иное, как один из моментов исторического бытия (§ 1).
История в узком и точном смысле этого слова усматривает и изучает развитие там, где оно полнее всего обнаруживается. А оно обнаруживается в материально-пространственном бытии не сразу, с большим трудом и при помощи определенных метафизических положений, бессознательно и безотчетно выставляемых философски необразованными естественниками, систематически и обоснованно – философией. Здесь, в области разъединенного бытия, для исторического понимания необходимо подняться над пространственной внеположностью, голая наличность которой исключает само применение понятия развития. Разумеется, подняться не значит отвергнуть (почему естествознание никогда и не может раствориться в истории). Но пока этого подъема не произошло, исторический момент в естествознании случаен и ведет к весьма неудовлетворительным схемам и построениям. Да его и не должно быть в чистом естествознании. Объяснение мира не дело естественника, а дело философа, который и должен, взамен неудачных попыток понять «историю» из «природы», понять «природу» из «истории» в ее усовершенности.
Есть две «преимущественно» или «собственно» исторических области: область развития отдельной личности и область развития человечества.
Изучение развития отдельной личности не имеет ничего общего с так называемой научной психологией (§ 5). Историческая наука об индивидуальной душе является до сих пор еще объектом смутных чаяний; конкретно же она осуществляется главным образом в области художественного творчества.
Своего рода историческими трудами являются автобиографии, такие – чтобы указать на лучшие образцы – как «Confessiones» Августина, «Confessions» Руссо, самоописания Кардано и Гёте. В них автор научно исследует собственное свое развитие, исходя из момента написания, в нем и чрез него понимая весь процесс и этот процесс оценивая с точки зрения абсолютного (или ошибочно абсолютированного) идеала. Именно такую оценку и такое понимание принято считать недостатком, субъективизмом. При этом забывают, что всякий историк поступает точно таким же образом, только с большею бессознательностью и меньшею очевидностью. Сам по себе, подход автобиографа к своей жизни является не умалением, а прибылью «научности». Тем, что автобиограф рассматривает свою жизнь с определенной точки зрения, он не искажает действительности, а познает ее единственно возможным способом – как осуществление и раскрытие всеединства его личности в данном моменте. Не выбрав себе точки зрения, ничего увидеть нельзя; вопрос лишь в том, удачно ли она выбрана, правильно ли понят и уяснен центральный момент. И тут, конечно, возможны самые разнообразные ошибки, как возможны они и во всяком историческом и вообще во всяком исследовании. Автор может ограниченно понять себя самого, неправильно оценить себя и, следовательно, все моменты развития. Он может, далее, многое не вспомнить (но разве историк знает все факты?), многое вспомнит неточно (но разве знание историка всегда отличается точностью?), многое вольно или невольно присочинит (но разве этим не грешны величайшие мастера истории? разве историки никогда не подделывали документов?). Во всякой автобиографии «Wahrheit» слита с «Dichtung».[17 - Wahrheit – истина, правда; Dichtung – поэзия (нем.). Имеется в виду название автобиографического сочинения Гёте.] Но что такое «Dichtung»? – Иногда это слово означает лишь более глубокое, обычно свойственное художнику (§ 5) понимание действительности: иногда (и реже) – собственно измышление. Но в последнем случае «Dichtung» только средство к символическому (§ 10) изъяснению того, что не получило реального осуществления.
Право, трудно понять скептическое отношение к автобиографиям. Предполагается обычно, что автор хочет показать себя с хорошей стороны. Для большинства автобиографий это неверно. А с другой стороны, разве не хочет блеснуть своим талантом историк? И разве он не ценит того настоящего, из которого и с точки зрения которого он оценивает и понимает прошлое? Предполагают, что труднее всего понять и оценить себя самого – опять необоснованная предпосылка и странное убеждение, что историк правильно понимает и оценивает свою эпоху. Единственно, чем не обладает автобиография, так это ученым аппаратом: она не пользуется «вспомогательными науками» – эпиграфикой, палеографией, сфрагистикой, дипломатикой и т. д. Но, слава Богу, я не настолько подвержен фетишизму научности, чтобы, посыпая солью кушанье, предварительно с помощью химического анализа определять, не сахар ли это. Автобиография является одним из наиболее ярких примеров и наиболее удачных применений исторического метода (я не говорю о ней, как о виде исторического источника, необходимом и нуждающемся в определенном к нему подходе со стороны историков коллективных индивидуальностей). Равным образом, к историческим исследованиям надо отнести и биографию, как историю индивидуальной души.
Третий вид истории души дается нам художественной литературой. Казалось бы, это утверждение, равняющее художественное творчество с «точною наукою» и напоминающее о притязаниях некоторых романистов на научный роман (вспомним Бальзака, Золя, в последнее время, Бурже, у нас – общественные тенденции литературы и Глеба Успенского), само ни на какую обязательность притязать не может. К тому же, в данной связи мы должны оставить в стороне всякие «социальные тенденции» и ограничить себя «психологическим романом», к величайшему нашему огорчению «солидаризируясь» с Бурже. – Художник «сочиняет» личность своего героя и его развитие, «выдумывает» фабулу, внешнюю обстановку. За ним готовы признать право на какую-то «художественную правду»; но, в чем эта правда заключается, никто толком рассказать не умеет. – Прежде всего настоящий художник никогда «личности» не сочиняет, а в произведении не «настоящего» вообще никакой: ни подлинной, ни воображаемой или сочиненной, личности нет. Исходным моментом художественного творчества всегда является усмотрение некоторой реальной личности. Иногда это вполне показавшая себя в деятельности, конкретно осуществившаяся личность, вынуждающая художника стать в положение портретиста. Иногда это личность, не раскрывшая всего в ней заложенного, не осуществившая наиболее ценного, что она могла осуществить. Иногда это собственная личность художника в тех своих потенциях, которые им не раскрыты в действительной жизни. Но всегда это конкретная индивидуальность, объективно им наблюденная. Интуитивно познав объективно-реальную личность, художник познает ее как живую идею. Он отдается ее диалектике, улавливает природу ее в ее возможных обнаружениях. По самому существу дела, он лишен возможности познать и сделать познаваемою для других усмотренную им реальность иначе как символически – через указание ее действительных или возможных актуализаций. Но действительных у него нет, как есть они у историка: остается сфера возможностей, в которой он и творит, руководимый и связанный диалектикой постигнутой им личности. Иного способа познания и изображения у него нет и быть не может. Но смысл даваемого им совсем не в «измышленном», а в том, что «измышляемым» характеризуется, что с помощью его познаваемо. Познаваема же с помощью «измышляемого» объективная историческая реальность (ср. § 10).
Тут обнаруживаются интереснейшие аналогии с историческим методом в сфере того, что называется собственно историей. – Историк часто страдает от недостатка фактических данных. Он стремится к возможно большей индивидуализации и конкретизации познаваемого. Он «вычитывает» из текста всегда более того, на что текст его уполномочивает. Описание характера исторического героя, его наружности, описание сражения или процессии, народного собрания или заседания парламента всегда конкретнее, чем говорящие о них свидетельства современников. Разве таким было коронование Карла Великого, каким мы, историки, его себе представляем и изображаем? Разве есть у нас право на такое точное изображение Клермонского собора или уличных эпизодов Великой Французской Революции, какое вытекает из наших описаний? Можно порицать К. Жюллиана за то, что при изображении одной из битв Ганнибала он позволяет себе говорить о лучах солнца, игравших на вооружении воинов: нам неизвестно, не было ли небо в описываемый момент покрыто облаками. Но не надо ли тогда порицать и одного из представителей ультра-строгой научности, усмотревшего задачу историка в сообщении читателю только «de textes bien nettoyйs»[18 - «Хорошо очищенные тексты» (фр.).]Ланглуа, если он, описывая ночные свидания Людовика Святого с его молодой женой на лестнице, конкретно их себе и читателю представляет и даже позволяет себе видеть в них единственный романтический период в жизни французского короля? Убедившись в существовании общего первоисточника для двух или нескольких дошедших до нас источников, историк не останавливается на этом. Он стремится таинственный источник реконструировать, определить его дату и автора, и – не верьте его словам! – вовсе не для того, чтобы сделать свои утверждения более обоснованными, а (по крайней мере – в большинстве случаев) совсем по иной причине. В этом «художественном» моменте исторической работы объяснение того факта, что» многие романисты, не обладая даром измышления фабулы, «опираются на сюжет» или лучше всего проявляют свой талант в произведениях исторического характера (А. Франс, А. де Ренье), а многие историки становятся и романистами (Эберс, Ф. Дан). Здесь же, в острой тяге к конкретно-индивидуальному, один из корней (конечно, не единственный) исторических подлогов (Макферсон, Ганка).
Не видеть в истории «измышленного» нельзя, и не может существовать история, как наука, без «измышления». Если попытаться его из истории устранить, надо будет свести исторические труды к хронологическим таблицам, перечням фактов и собраниям текстов и строго запретить авторам прибегать к каким бы то ни было литературным приемам изложения. И то еще останется много воображаемого, так как само установление дат, фактов и понимания текстов уже является историческою работою. Всякое наблюдение возможно только на основе некоторой «апперцепирующей массы», пронизано примыслами, и ходячие примеры из области свидетельских показаний указывают лишь на очень малую долю измышляемого. А ведь и от них теоретики отделываются только смутной и необоснованной надеждой на то, что истина все-таки как-то устанавливаема. Как же тогда сохранить историю, не отвергая ее «научности?» – С традиционной точки зрения это невозможно, с нашей – вовсе не трудно. Художественно-творческая конкретизация исторической действительности должна быть понимаема как применение символического метода. Важно не то, что встреча папы Стефана II с королем Пипином Коротким произошла именно так, как мы ее себе представляем. Может быть, конкретная обстановка ее была существенно иною. Но важно, что несомненно бывшая встреча в существе своем выразима и познаваема с помощью нашей конкретизации, как выразима и познаваема она и с помощью некоторых других конкретизации. Мы придаем значение не самой конкретности и стремимся к ней не ради ее самой, а ради выражаемого ею, без нее нам недоступного. Разумеется, в этом известное несовершенство нашего знания. И конечно, конкретизация не должна противоречить тому, что доподлинно известно: историк более связан, чем художник. Ненужная конкретизация, подобная приведенным выше декламациям К. Жюллиана и Ланглуа, столь же нетерпима в истории, как и ложная, т. е. противоречащая известному. Но мы готовы простить Маколею недостаточную его почтительность к «достоинству» истории за то, что ему удалось нарисовать верную картину прошлого. И с меньшим, чем то обычно делается, скептицизмом надо отнестись к «речам» у древних историков, которые, как и их читатели, великолепно знали, что не эти речи на самом деле произносились. Следует быть строгим и точным; не следует быть педантом.
Историческое познание своей или чужой личности в ее развитии и достоверно и ценно, как в автобиографии и биографии, так и в художественном опознании ее через символическое построение и в обычном жизненном понимании ее (§ 10). Однако надо считаться с тем, что нет личности, качествующей только собою, отъединенной от других таких же, как она, личностей, от высших индивидуальностей: общества, культуры, человечества. В этом смысле сосредоточение в биографии или автобиографии только на личности всегда условно, насильственно, делает их неисторическими в полном и широком смысле этого слова. И понятно, что некоторые историки и теоретики (Эдуард Мейер) возражают против отнесения биографии в область истории. Они правы, поскольку биограф рассматривает своего героя вне всего исторического развития. Но так поступают только плохие биографы. – История индивидуальности неуловимо и неизбежно переходит в историю вообще. Данная личность рассматривается «в связи» с ее эпохою, т. е. в смысле в ней качествующей и индивидуализирующейся и тем себя раскрывающей эпохи. (ср. Дильтеево «Жизнеописание Шлейермахера»). Личность индивидуализирует тенденции эпохи, национальности, культуры: она для них «показательна», символична, характерна. Она часто «типична», потому что тип и есть яркая индивидуализация стяженно-всеединого. Она типична или в личном своеобразии ее или в отдельных, особенно ясно выражаемых ею качествованиях. Но в личности получают выражение и конкретизацию и высшие, чем национальность или культура, моменты, хотя и в качествовании моментов, к ней ближайших. – Мышление какого-нибудь философа не только выражает его личность: оно конкретизирует и индивидуализирует абсолютную истину в постижении ее человечеством. И то же самое надо сказать о религиозном, этическом, эстетическом качествовании каждого человека. Без понимания всего этого, конечно, невозможна никакая история личности.
В зависимости от того – на чем преимущественно сосредоточено внимание исследователя: на особой ли качественности данной личности, ей только свойственной, или на показательности и типичности этой качественности и на проявлении в личности высших индивидуальностей, биография более или менее исторична. Она, говоря обычнее, тем более переходит в историю, чем более личность «поставлена в связь» с движениями ее среды, времени, культуры и с общими проблемами человеческого духа. Но если не исторична биография при сосредоточении на только индивидуальном, то нет и истории без биографии, хотя в эмпирической историографии, конечно, и неизбежно так или иначе ограничить сферу своего изучения.
История индивидуальной души не только один из моментов истории. Как наиболее конкретное и, можно сказать, единственно конкретное, индивидуальное развитие оказывается наиболее пригодным для установления и анализа основных исторических понятий. – В индивидуальной конкретно-развивающейся душе полнее и яснее всего вскрывается строение всеединства, чем мы и воспользовались в первой главе. Путем ее анализа удается установить понятия всеединства, момента, стяженности, завершенности и совершенства, равно – выяснить и «взаимодействие» моментов и индивидуальностей. И только на основе этого анализа можно до конца понять и объяснить, что такое историческая коллективная индивидуальность, субъект исторического развития, момент его, историческое взаимодействие и т. д. Дело тут не в аналогизировании исторического индивидуально-историческому, не в гипотетическом перенесении на исторический процесс найденного в индивидуально-историческом. Анализ самого исторического приводит к тем же основным положениям,[19 - С этой точки зрения написана мною небольшая брошюра – «Введение в историю (Теория истории)»; из серии «Введение в науку. История», в. I. Петр., 1921.] но он не позволяет достичь такой же степени конкретности, «осязаемости». В изучении индивидуально-конкретного развития мы находим не повторение отвлеченного закона или отвлеченной формы. В нем, как в моменте всеединого развития мы изучаем и познаем само это развитие. Возможность же отвлеченного «построения», отвлеченной формулировки покоится на своеобразном отношении между качествующею в индивидуумах высшею индивидуальностью и ими, как ее моментами (§ 12).
С этой точки зрения, важно, что индивидуальное развитие не только являет нам общее «строение» всеединства. Оно являет также порядок развития индивидуальности, т. е., говоря более конкретно и несколько условно, позволяет развитие периодизировать. Детство, отрочество, зрелость и старость характерны не только для данной индивидуальности, но и для всякой другой индивидуальности того же порядка. Они характерны для всех людей и являются качествующими во всяком человеке моментами всеединого человека. И тут возникает чрезвычайно важный для теории истории вопрос: должны ли они в каком-то отношении быть характерными и для исторических коллективных индивидуальностей? Мне кажется, что положительный ответ вытекает из самой идеи всеединства.
Периоды или возрасты жизни индивидуума являются качествованиями в нем всеединого человека, т. е. соответствуют аналогичным периодам в конструируемом нами отвлеченном понятии человека, которое не только есть условное общее понятие, символизирующее его как стяженное всеединство в нас, но и обосновано в качестве формально общего (§§ 9, 12). Однако человек не непосредственно индивидуализируется в конкретных личностях: всякая конкретная личность качествует более близкою к ней его индивидуализацией. Она – момент его момента, некоторого ограниченного всеединства, т. е. определенной социальной группы, нации (поскольку нация является моментом Человека), определенной коллективной индивидуальности. Эта индивидуальность есть сам Человек в одной из его индивидуализации и реальна только в «составляющих» ее индивидуумах. Поэтому и в ней, как во всех «промежуточных» между индивидуумом и Человеком индивидуальностях, должны быть те же периоды или моменты. Таково общее, принципиальное положение. Чтобы его конкретизировать, чтобы определить, как должно понимать периоды или «возрасты» высших индивидуальностей, необходимо прежде всего развитое учение об исторических коллективных личностях и их взаимоотношениях и возможное лишь на почве его усмотрение общего (не только общечеловеческого) в «возрастах» самого индивидуума. Пока дальше принципиальной постановки этой проблемы, которая является частью или моментом проблемы об «исторических законах», идти мы не вправе.
15
Содержание истории – развитие человечества, как всеединого, всепространственного и всевременного субъекта. «Субъект» и «развитие» не отделимы друг от друга иначе как условно. Однако, если субъект не вне содержимого им в себе и являющегося им самим эмпирического процесса, нет оснований предполагать, что он целиком в эмпирии, как она осуществляется и познается нами. Может быть, даже наверное, мы познаем ее не целиком, как не целиком осуществляем. Может быть, многое в ней потому нам и непонятно, что мы не учитываем непознаваемой нами реальности.