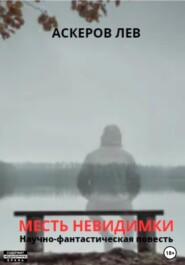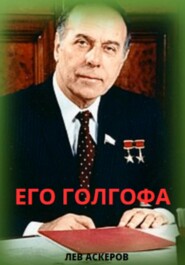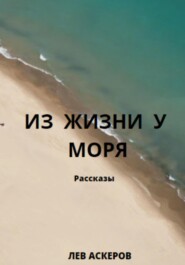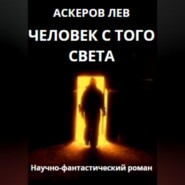По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Спасибо, – кривится Ага Рагим. – Привет за то, что я хорошо приму тебя?
– Ты меня наповал убиваешь, брат Рахимка! Старшой-то у нас… – Ефим стукнул себя по колену, – догадайся, кто?
Рыбак развел руками.
– Наш старшой… – Коган помедлил, – Яшка Шофман.
– Яков Сергеевич?!.. Ну, спасибо. Хорошая новость.
– Товарищи из Питера к нам его послали. Порядок наводит. Приручает блатную братию.
– Волк поводка не примет, – хмыкает Рахимка.
– Если поводок по духу – примет, – натягивая сапог, говорит Фима.
Ага Рагим пожимает плечами.
Пока гость одевался и рассказывал, Ага Рагим успел заставить корму парусника снедью и вытащить из заначки штоф водки.
– Вот это по-царски! Вот это по-нашенски! – потирая руки, воскликнул одессит и тут же спросил: – Ты чего так на меня глазеешь, басурманище? Это я. Я, Ефим Коган.
– Узнаю, – буркнул рыбак. – И по лицу и вот по этому, – Ага Рагим показал, как Фимка потирает руки.
Этот Фимкин жест врезался ему в память на всю жизнь. Повторить его можно было, но при этом что-то, принадлежащее только ему, Когану, все-таки терялось. Потирая руки, он как бы становился в боксерскую стойку и чувствовалось, как все его существо, оставаясь неподвижным, сворачивалось и сжималось для решающего броска. И не дай Бог кому стать на пути этого прыжка. Ага Рагиму приходилось наблюдать его чудовищную силу. В ту зимнюю ночь на таежной дороге она показала себя во всей страшной красе.
То было первое и самое серьезное задание боевой группы, созданной Яковом Шофманом в сибирской глухомани, в Медвежьем остроге, где заключенные жили довольно свободно. Запросто наведывались в кержацкий поселок, называемый Угрюмой заимкой. Поселок стоял за несколько верст от острога, неподалеку от большака. Правда, еще не так давно заключенные ходили туда без всякой охоты. По необходимости. Когда нужно было приобрести чего-нибудь из съестного и одежки. Некоторые заводили там женщин. Но как только на заимке становилось известно, что какой-то каторжанин повадился к местной девахе, ей там не давали житья. А чужачка могли зарезать или из кустов, жаканом, снести голову. Никто ни с кого за это не спрашивал. Не один ушел в небеса по глухой тропке, что вела из заимки к острогу. Враждебен и лют был кержак к людишкам, отбывающим здесь срок. И молодки не раз бежали из отчего дома под тюремные стены, где вместе со своими соблазнителями обзаводились детьми, хибаркой да хозяйством.
Острожане из Медвежьего в бега не пускались. Некуда было. Если уйдешь вдоль большака, ведущего в Красноярск, наверняка угодишь в лапы жандармам. О каждом шаге беглецов – где они заночевали, что ели, в каком месте их надо было поджидать – им доносил местный, охочий и потому приметливый, народец…
Бежать через тайгу – верная смерть. Безумцы находились. Пропадали они. Либо становились добычей зверья, либо их самих, как зверей, отстреливали кержаки-охотники. Просто так. Награды за это власти им даже не сулили. Но что правда, то правда: за убиенных тоже не спрашивали. Хорошо, если потом от останков беглецов находили кости.
К тому времени, когда сюда пригнали Якова Шофмана, Бурлака, Сапсана и Басурмана, между каторжанами, отпущенными на вольное поселение под бревенчатые стены острога, и людьми Угрюмой заимки установился относительный мир.
Отпетые душегубы, которым нечего было терять, не уступали угрюмским людишкам в жестокости. Даже, пожалуй, превосходили. Мстили неотвратимо, с садистской изощренностью. Для устрашения своих подленьких соседей пустили в ход поговорку: «За око – два ока». И стала та поговорочка неписанным законом, установившим, пусть худой, но мир.
Равновесие поддерживали политические. Разношерстные по своим идейным убеждениям, они здесь, вместе со всеми, находились, по существу, в одинаковом положении. Острог их нивелировал. До политики, как думалось жандармам, отсюда было далеко. А тем, кто в том, в своём далеком, варился в оной каше, было уже не до неё. И политические, которых в Угрюмой презрительно называли «интеллигентами», чтобы противостоять местному сучьему мужичью и откровенной уголовщине, вынуждены были объединиться в одну организацию. Объединение это не имело четкой идейной физиономии. Оно походило на элементарное человеческое содружество, цель которой заключалась в том, чтобы выжить и не одичать. Его придумал сосланный сюда из Самары врач Куприян Бенедиктович Кондаков. Он же и руководил содружеством.
Жил Кондаков в одном из домишек, что тесно ютились вокруг тюрьмы. За много лет их здесь выросло до сотни. Здесь же для ссыльных и безграмотных местных людей он организовал школу. В ней три раза в неделю, в основном по вечерам, обучались изъявившие на то желание каторжники. Начальство Медвежьего ничего в том дурного не видело. Во всяком случае, не мешало ни школе, ни своим заключенным.
В губернии эта стихийно возникшая деревушка была зарегистрирована под названием «Медвежья выселка». Сюда они слали свои циркуляры, на пакетах которых писали: «Заимка Угрюмая, Медвежьи выселки. Смотрителю острога «Медвежье» г-ну Черновалову».
Почты в Медвежьих выселках не было. Письма и посылки доставляли в Угрюмую, а потом уже к ним. Как правило, это делал кто-нибудь из политических вольнопоселенцев. Сначала это делал Кондаков. Но после того, как его однажды угрюмчане чуть было не прибили за пятьдесят рублей и десяток посылок, что он вез адресатам на своих санях, он перестал заниматься столь полезной, но, как выяснилось, опасной перевозкой. Хорошо, следом за ним ехали ребята, возвращающиеся домой на Медвежью выселку. Порядком хмельные, они горланили блатные песни, и в сумеречном морозном безветрии их голоса разносились чуть ли не за версту. Иначе пропал бы Кондаков… Разбойничкам удалось бежать, захватив с собой все посылки и деньги, присланные жильцам выселки из большой земли.
После этого, по просьбе Куприяна Бенедиктовича, доставкой почты стал заниматься угрюмский мужичок – Витек Макаров, слывший удачливым разбойником. И хотя за ним ходила худая слава, у властей кроме слухов на него ничего не было. А может, что и было, но они помалкивали. Витек жадным не был. Из того, что грабил, он всегда делился с высоким, по местным меркам, полицейским начальством. Оно-то и закрывало глаза на его шалости. А чего им было их не закрывать? Шалил-то он далеко от дома.
Макаров согласился привозить в острог почту без раздумья. И согласился не столько потому, что Куприян жил с его сестрой и бесплатно всех их лечил, а потому, что через это ненужное ему извозчичье дело хотел услужить и быть на хорошем счету у смотрителя Медвежьего острога Черновалова. Тот, как-никак, жандармский капитан, под чьим присмотром находились все окрестные людишки…
В той, созданной Куприяном, школе преподавал теперь и давний его знакомец, доставленный сюда из Поганого, инженер Заворыкин. Его месяцем раньше выслали сюда на вольное поселение.
Куприян вместе с Заворыкиным прикатили в острог сразу же на следующий день после прибытия новой партии каторжников. Оказалось, Куприян Бенедиктович с Шофманом были земляками и встречались на собраниях и рабочих сходках Самарской организации РСРДП. И Кондаков хорошо знал, что Яков Сергеевич, будучи одним из руководителей самарских большевиков, лично знал Ульянова и, бывало, сопровождал его по подпольным ячейкам, где тот читал лекции о марксизме и насущных задачах социал-демократов России.
Кондаков уже с неделю как получил от красноярских товарищей известие о том, что Шофман переводится в их края. С этой же новостью ему было передано письмо, предназначенное лично для Якова Сергеевича.
С содержанием этого послания Шофман познакомил всех на первом же закрытом собрании ячейки. На нем, кроме Якова, Куприяна, Заворыкина и Витьки Макарова, присутствовали Коган, Спирин и Ага Рагим.
– Тех, кого я привел, – сказал Яков Сергеевич, – это уже проверенные нами товарищи. Они должны услышать и проникнуться всем тем, что здесь будет говориться, так как им придется составить основное ядро создаваемой нами боевой группы.
Кондаков и Шофман подробно рассказали о событиях, происшедших в центре России, о поражении первой русской революции, о мужестве мятежных моряков броненосца «Потемкин», о питерских, московских и бакинских рабочих, добившихся ряда демократических привилегий, и о том, как царизм безжалостно расправлялся с восставшим народом.
– Силен, знать, царь, – пробубнил Спирин, – коль мог всю поднявшуюся Расею угомонить.
– Да, царь силен, – согласился с Бурлаком Яков Сергеевич, – но народ сильнее его во сто крат. Если бы все поднялись, тогда, – мечтательно протянул Шофман, – совсем другое дело было бы. Это, во-первых, а во-вторых, те, кто поднялся, оказались без настоящих партийных руководителей, которых охранка разогнала по тюрьмам да по ссылкам и бросила на войну с японцами. В-третьих, как стало известно, из-за распрей в самой партии между большевиками и меньшевиками отсутствовала четкая революционная программа… Эх, да что говорить, причин много, – сокрушенно вздохнул Шофман.
Воспользовавшись паузой, Куприян поднялся и продолжил:
– По этому поводу, товарищи, руководитель Центрального органа РСДРП Ульянов, между прочим, лично знающий нашего Якова Сергеевича, об этом хорошо написал… – он поднял над головой тоненькую брошюрку. – Нам надо всем извлечь уроки из этого поражения. Готовить новую революцию уже сейчас, сию минуту и быть к ней готовым. А она может вспыхнуть скоро. Быстрей, чем мы с вами, находясь здесь, думаем.
– А когда вспыхнет, – подхватил Яков Сергеевич, – зависит от таких, как мы. От наших дел. Нам нужно агитировать и привлекать в наши ряды верных и надежных людей. Делать их беззаветно преданными нашему делу борцами.
Последние слова он произнес с вызовом, бросив многозначительный взгляд на Заворыкина с Кондаковым. Но они промолчали. Только отвели глаза.
– Среди нас немало нужных нам, решительных, готовых на все людей. Мы с ними вместе живем, работаем, делим черствый хлеб царской доли. Мы пока малочисленны и бедны. У нас, может быть, прекрасная теория, правильная программа, но без средств мы ничего не сможем добиться. Издавать газету, покупать оружие, поддерживать семьи революционеров и самих революционеров… А где взять их, эти деньги?
Вопрос повис в воздухе. Наступило долгое молчание. Его нарушил ворчливый бас Бурлака:
– С кистенем на дорогу надобно…
– Надобно! – подался вперед Шофман. – Но не кого попадя грабить. – И тут же спохватившись, поправился: – Не грабить, а экспроприировать. То есть отбирать у тех, кто веками на нашей кровушке наживался.
Шофман перевел дыхание и, откашлявшись, продолжил:
– Вот мы и подошли к главному. Мне городской организацией большевиков поручено создать боевую группу из сильных и преданных народному делу товарищей. Мы должны стать боевой единицей партии. Активно заниматься и здесь, и на свободе экспроприацией экспроприаторов. Нам, то есть таким как мы боевикам, партия поручает самое ответственное задание пополнять партийную казну деньгами, золотом, драгоценностями… Без них революции не видать как своих ушей.
Так была создана боевая группа Шофмана. А вскоре товарищам из города стало доподлинно известно, что на Дальний Восток через Красноярск, по тракту, считающемуся самым безопасным, пройдет кибитка, груженная деньгами и слитками на сумму в полмиллиона рублей…
Завладеть той кибиткой поручили шофманцам. На помощь им подослали еще двух товарищей. Они прибыли сюда загодя. Правда, их помощь заключалась лишь в том, чтобы сразу после захвата переложить деньги в свои сани и укатить с ними в город.
Шофман в той операции не участвовал. Он заболел. Налетом руководил Кондаков. На дорогу вышла боевая группа с двумя городскими посланцами. Они все время держались рядом с Кондаковым.
… – Я больше не могу. Окоченел, як барбос, – простучал зубами Спирин.
– Выть хочется, – поддакнул Фимка Сапсан.
– И то правда. Псам и волкам легче. Повыл раз-другой, и кочень от костей отлегла.
– Пробовал?
– Угу.