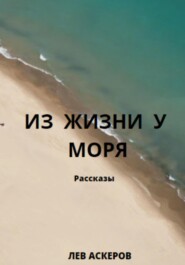По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Будя маяться. На все воля господня.
Из избы они вышли вместе. Кучер, завидев Варжецова, стянул с себя картуз. Ян кивнул и строго предупредил:
– Князь у меня не был… А то знаешь меня.
Во флигель мытищинской усадьбы, где теперь жили братья, полицейские ворвались спозаранок. По жалобе князя Львова и Кулешова за покусительство на собственность и жизнь, Григорий был арестован и сопровожден в местную тюрьму.
Тюрьма представляла собой одноэтажное каменное строение с двумя темными и мокрыми камерами, находящимися глубоко в подвале. Камеры, переполненные разным сбродом, одна от другой были отделены массивными железными решетками. Между ними, позвякивая ключами, ходил или беззаботно насвистывая, сидел на табуретке ко всему безучастный надзиратель. Мытищин не мог и предположить, что в их заштатном губернском городке может быть столько преступного люда.
Топчанов, стоявших по трем сторонам стен, всем не хватало. И люди стояли, переминаясь с ноги на ногу. Иногда за краешек освободившегося топчана, на котором можно было хотя бы сидя вздремнуть, устраивались потасовки. Лучшими местами считались те, что находились поближе к решетке потому что там было светлее и из-за часто открывающейся двери, ведущей на волю, веяло свежим воздухом. Места эти принадлежали известным в губернском масштабе жулью, называющими себя «паханами братвы». На них никто больше не имел права предъявлять претензий… Они, эти «паханы» тюремного света, были и одеты получше прочих и, повелевая, держали в страхе остальных заключенных.
Мытищину по началу тоже не сделали исключения. После того, как его сюда поместили, он долго стоял, а потом привыкнув к полумраку и завидев топчан, тотчас же сел, опустив на ладони голову. Ему показалось, что он держит не голову, а чугунный шар, который от страшных ударов внутри него вот-вот должен был расколоться.
– Эй, малый, – нараспев, с издевкой, позвал Мытищина один из фертов, тюремной элиты.
Григорий не шелохнулся. Он и не догадывался, что этот окрик касается его. Снова давала о себе знать нестерпимая боль в голове… Люди в обеих камерах обратили свои взоры на новичка и притихли в ожидании готовящегося представления. Ферт подошел к Мытищину вплотную. Камеру окутала зловещая тишина. Ферт двумя пальцами взялся за воротник пиджака Григория.
– Эй, мал-о-ой…
Мытищин резко стряхнул с себя его руку и рявкнул:
– Пшел прочь!
– А-ах, ты так?! – угрожающе протянул Ферт.
Григорий продолжал сидеть все в той же позе. Ему было трудно поднять очугуневшую голову.
– Будя! – вдруг вмешался надзиратель.
Все, как один, повернулись к нему. Никогда, ни одни из них в подобные сцены не вмешивался. Ферт вопрошающе посмотрел на безучастно стоящего поодаль тюремного вожака по кличке Косолапый. Тот, пожевывая спичку, в знак высокого соизволения кивнул головой. Но надзиратель уже матюгом остановил Ферта.
– Косолапый! – наконец догадался он. – Где ты? Подь сюда.
Необычное поведение надзирателя привело обе камеры в изумление. Все напряженно наблюдали за Косолапым, слушавшего нашептывания тюремного служаки. Брови Косолапого полезли, как говорят, на полати.
– Он?! – невольно воскликнул вожак.
Надзиратель кивнул и, позвякивая ключами, пошел вдоль решеток. Косолапый, некоторое время о чем-то усиленно размышляя, смотрел на склоненную голову новичка. Покачал густой гривой и, передвинув в другой уголок рта спичку, не глядя на задиру, сказал:
– Не моги чепляться к нему.
– Пошто?!
– Цыц, ублюдок!
Люди по обеим сторонам камер онемели. После непродолжительной паузы Косолапый объявил:
– Это его благородие князь Мытищин Григорий Юрьевич.
Григорий сидел в прежней позе. Не повел и бровью. Он и ничего не слышал. Он толком видимо и не понимал, где находится. Вскоре он лег на топчан и, не двигаясь, пролежал часа два. На спящего князя ходила смотреть вся камера. А он лежал ни разу не почесавшись, хотя даже по щеке ползали два вздувшихся от крови клопа. Потом он встал и больше ни разу не прилег. Ходил вдоль решетки, то закинув руки за спину, то массируя ими себе шею. Иногда, правда, он садился, но вскоре опять вставал, продолжая ходить из угла в угол.
Клопиных укусов Григорий не чувствовал. Его занимала одна мысль, как бы здесь, среди чужих, отталкивающих всем своим видом субъектов, с ним не случился припадок.
Так странно, непонятно для окружающих, он вел себя вплоть до дня своего освобождения. Ключи свободы звякнули для него утром третьего дня…
Несколько раз на его пути становились посыльные Косолапова, предлагавшие ему прилечь. Наконец к нему подошел сам вожак.
– Прилег бы, ваше благородие, – сочувственно заглядывая в воспаленные глаза Григория, попросил он. – Ить усю ночь не спамши.
– Весьма признателен… не могу я…
– Воля ваша, – сказал вожак и больше к Мытищину никто не подходил.
Где-то к вечеру Косолапова подозвал надзиратель, воровато вручая ему записку с воли. Прочитав ее, он невольно встрепенулся и, мельком взглянув на Мытищина, вновь уставился на написанное. Потом и он, как Григорий, заметался вдоль решетки, усиленно о чем-то размышляя и крыл матом всех, кто пытался выведать что случилось. Наконец, придя к какому-то решению, он взял под руку Григория и тихо сказал:
– Разговор есть, ваше благородие.
– Говори.
– Пойдем к свету.
Уже там он протянул полученную записку.
– Читай. Не боись.
Григорий усмехнулся. «Косолапушка, – читал он, – у твоей блоховке отсиживает зловредна личность, княжеский пащенок Гришка Мытищин. Ужо небось знаш. Коль его к завтрему вынесуть вперед ногами плачу 500 рублев и ослобоняю тебя. А захочешь больше отвалю больше. Ярофей».
Ни одни мускул не дрогнул на лице Григория. Он прочел записку еще и еще раз.
– Ничего не пойму, – наконец вымолвил Мытищин. – Голова, как чугунок. Болен я. Понимаешь?..
Вожак кивнул.
– Кто такой Косолапый?
– Я.
Григорий что-то буркнул, отдал записку и снова стал мерить шагами длину клетки. Мысли тяжелыми булыжниками ворочались в его голове. Он чувствовал, в этой записке есть что-то полезное для него. А что, ни определить, ни сформулировать никак не мог… Он скрипнул зубами и, заставляя себя сосредоточиться, обзывал себя последними словами… «Думай, идиот, думай…» и он ее поймал.
Такая простая. Такая спасительная.
Косолапый сидел на том же месте. Григорий подсел к нему.
– Как ты с ним? – показал он на надзирателя.
– Нашенский.
– Дай ему четвертак, – Григорий сунул ему смятую кредитку.