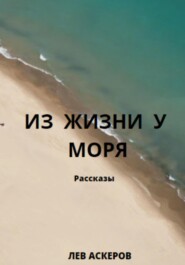По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но это было не вчера, дорогая. С тех пор минул месяц.
– Прекрати! – сорвалась она на русский. – Что вы из меня сумасшедшую делаете?
Из столовой она вышла впавшей в свое прежнее странное и тихое безумие.
Впредь, зная эту довольно-таки редкую особенность психически больной жены, Мытищин вел себя осторожно. И сейчас, умирая, он надеялся, что в своем просветлении жена вспомнит все, что он скажет. И ему хотелось сказать ей такое, чтобы она поняла, как он раскаивается, как понимает, что был подлецом по отношению к ней, к семье и как противен он самому себе.
В паническом хаосе чувств, обрушивающихся на человека в предсмертьи, Мытищин всем существом своим вдруг понял, что эту, подурневшую, по-жуткому дергавшуюся женщину, он любит больше чем когда-либо. Что никого никогда так не любил. И сейчас, в последние минуты бытия своего, он единственный и последний раз в жизни думал не о себе и переживал не за себя. От подступившей к сердцу боли, от слез, проступивших на ресницах, князь стал задыхаться.
– Юрий Васильевич, нельзя вам так, – щупая пульс, успокаивал врач.
– Может, батюшку позвать? – спросил Кулешов.
– К черту священника! – яростно выдохнул Мытищин. – Во мне сидел божий рок, а не поповское заклятье… Ведь понимал же я, что живу не так. А совладать собой не мог. Бес крутил мною как хотел. Где был тогда батюшка?.. И кто у меня, у ней и у вас – батюшка? – бросил он горящий взгляд на обступивших его. – Кто?!. Вы тоже себе не принадлежите. Тобой, Ерошка… – Кулешов икнул и перекрестился. – Тобой, Ерошка, правит мерзкая, подленькая сатана… Доктором,– Юрий Васильевич посмотрел на врача, может и душевный, но-таки Лукавый… А ею – бес! Бес, приносящий несчастье!.. Вот вся нехитрая гармония бытия человеческого, – говорил он раздумчиво, внятно, пока не стал снова ртом ловить воздух и просить открыть окно.
Отдышавшись, он с минуту смотрел на жену и с нежностью, на какую был способен, сказал:
– Машенька, ты мой священник. И я тебе говорю: нет мне прощенья. Нет! Я оставил вас нищими…
Дыханье опять осеклось. Грудь разрывала жгучая боль.
– Где дети?.. Детей сюда… И Андрюшку! Немедленно Андрюшку… Прости меня, Маша… Ерошка, за Андрюшей! Мигом! Ну!..
2.
Та ночь Андрею Варжецову запомнилась на всю жизнь. В большой, богато обставленной спальне стояли два зареванных холеных барчука. Один –
его ровесник, другой лет на пять постарше. Посреди комнаты пританцовывала лохматая, но красивая барыня. Над постелью, с закатанными по локоть рукавами, со шприцом в руках наклонился человек. Кулешов ему глазами показал на Андрея, и тот негромко сказал умирающему, что мальчик пришел.
Юрий Васильевич никак не отреагировал. Он лежал в забытьи. Копна спутанных светлых волос налипла на восковом лбу, где едва подрагивали вороньими крыльями густые брови. Нос, с шумом всасывая воздух, вытягивался и казался еще прямей и острей. Русая, аккуратно подстриженная бородка, как у всякого решительного и сильного нравом человека, вызывающе выдвинулась вперед и от напряжения трепетала.
Ерофей приблизился к кровати.
– Князь, князь, – настойчивым шепотом позвал он.
– Что тебе?
– Андрей пришли.
Крылья взметнулись, засветив два горящих угля.
– Где? Где он?.. Подойди ко мне, сынок. Дай поцелую напоследок.
Он прижал мальчика к себе. Снял с него собачий малахай. Длинные, холодные пальцы нервно пробежали по лицу мальчугана и стали ворошить волосенки.
– Тебя отец так редко целовал… Не поминай меня лихом… Не поминай… Хорошо, Андрюша?
Мальчик кивнул головой и вдруг тонко взвыл:
– Тятенька, не помирай… Тятенька…
– Ну-ну, – дрогнувшим голосом остановил он мальчика. – Гриша, Митя, подойдите… Это ваш брат. Подайте друг другу руки. Ну, все разом положите мне на ладонь… Вот так. Живите дружно. Запомни, Андрей: Гриша старший. Слушай его во всем… А ты, князь Григорий Юрьевич, – Мытищин крепко сжал в ладони детские руки, – блюди за братьями… Андрея не отпускай, пусть живет с вами… Такова моя последняя воля, князь.
Он привлек к себе Григория и поцеловал.
– И еще, Гриша. В тебе такой же бес сидит, что и во мне. Не дай ему взнуздать… – Юрий Васильевич, грозя кому-то невидимому, высоко вскинул сжатую в кулак руку.
Договорить он не успел. В грудь больно-пребольно, как в камень, ударило тупым раскаленным железом. Он раскрыл рот, чтобы вздохнуть или крикнуть… Поднятая рука его тяжело упала на матрац и, отскочив от него, раскачиваясь, повисла над полом. На жгуче-черные глаза медленно наплывала холодная эмаль…
В один из дней своего просветления, повторявшиеся теперь очень редко, Мария Григорьевна, присутствуя за обеденным столом, восприняла Андрея довольно спокойно. А мальчик напротив. На то у него были основания. Однажды глубокой ночью после похорон князя, в отведенную Андрею спальню вошла Мария Григорьевна. Намаявшись за день в играх с братьями, мальчик крепко спал. Впечатления доселе незнакомой и интересной жизни, нахлынувшие на него в доме Мытищиных, приходили ему во сне сказочными картинами. Он видел хорошие сны. То являлась мать, одетая в платье из цветочных лепестков, и начинала кружить его по комнате, радостно хохоча. То вдруг она исчезала и появлялся на белом коне, в сверкающих доспехах тятенька. Люди, обступившие светлейшего князя, отталкивали Андрея, шикали на него. Но вот тятенька заметил его: «Это мой сын, Андрей». И его под руки подводили к нему. Потом все пропадало…
Всегда снилось что-нибудь хорошее. А тут он во сне почувствовал ужасный страх. Сначала в лицо ему ударил свет, а потом по нему нервно пробежали длинные холодные пальцы. Мальчику это ощущение показалось знакомым. Так перед смертью гладил его тятенька. Не открывая глаз, он осенил себя крестом. Но свет не гас и чьи-то застуженные пальцы продолжали шебаршиться на груди, поверх сорочки. Андрей открыл глаза. Над ним со свечой в руках стояла взъерошенная, вся в белом, сумасшедшая барыня. Она не мигая смотрела на него. Андрей, взвизгнув, отскочил к краю кровати и, весь дрожа, стал вопить, чтобы она его не убивала и чтобы домочадцы спасли его.
После той ночи Григорий приказал перенести кровать Андрея к нему в спальню. Княгиня сюда заходила чаще, но так страшно уже не было. Гриша, зная причуды матери, всегда просыпался и ласково разговаривал с ней. Показывая на Андрея, просил полюбить его. Она беззвучно смеялась. И удалялась, не проронив ни единого слова.
Когда Мария Григорьевна вошла в столовую, где завтракали мальчики, Андрей окаменел от страха. Григорий даже не повел бровью. Легко соскочив со стула, на котором раньше сидел отец, он пошел ей навстречу.
– Бонжур, маман, – ласково приветствовал он и, отодвинув ее стул, пригласил сесть.
– Как вы милы, князь, – благодарно улыбнулась она.
Гриша поцеловал ей руку и снова сел на отцовское место. Дима, взяв свою тарелку, подсел к матери. Андрей, от сковавшего его страха при появлении княгини, уже есть не мог. Серебряная ложечка стала просто неподъемной. Она сорвалась и со звоном покатилась по паркету. Андрей вспыхнул. Он хотел было встать, чтобы поднять ее, но строгий взгляд Григория остановил его. Мальчик разволновался еще больше. Нос его вдруг набряк жидкостью. Он почувствовал, как она течет на губу. Не в силах поднять руку, чтобы вытереть сопли, он несколько раз шмыгнул носом и закашлялся.
– Позови, милая, Ерофея, – попросила княгиня кормилицу.
Небрежно одетый, пошатываясь от неулетучившегося еще хмеля, Кулешов навалился на косяк и мутно уставился на княгиню.
– Ерофей, – сказала она, – мальчику, – и кивнула на Андрея, – подыщите учителя.
Потом, повернувшись к старшему сыну, уже по-французски добавила:
– В нем, дорогой, так много дурных привычек. Не так ли?
– Вы правы, маман.
Мать обворожительно улыбнулась.
– Подыщите… – не меняя хамской позы, передразнил Кулешов. – А на какие деньги-с изволите-сь? Этого, – ткнул он пальцем на Андрея, – он в наследство оставил. А этого, – приказчик хлопнул по карману, – нет…
– Как вы смеете, Ерофей?! – вспыхнула княгиня и принялась горячо и сбивчиво нести околесицу.
– Смею-с, смею-с, – издевательски ухмылялся Кулешов.
– Успокойтесь, маман, – побелев лицом, попросил Григорий. – А ты, Ерошка, ступай выполнять приказание барыни.
– Как же-с?! Побег уже.
– Тогда вон! Ты у нас не служишь больше.