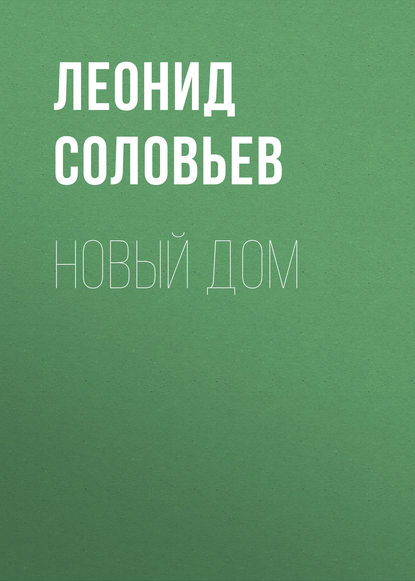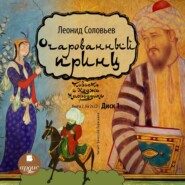По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Новый дом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А какое же в нем понятие, в этом слове? – любопытствовали мужики.
– Да вам что объяснять, – презрительно отвечал фельдшер. – Латинского вы все равно не учили…
Так и не узнали мужики, что значит мудреное слово «психиатрия».
Хотя фельдшер получал в районе жалованье, но даром никого не лечил. Брал он много дороже Кирилла, амбулатория пустовала. Мужики ходили туда исключительно за справками о невыходе на работу по болезни, иначе председатель не верил. Фельдшер выдавал справки охотно, потому что был почитателем собственного почерка и радовался всякому случаю лишний раз подписаться. Он долго раскачивал кисть руки, примерялся справа и слева, наконец, с размаху бросал перо на бумагу и выводил длинный завулон. Развлекаясь, он исчертил своей подписью всю «Книгу учета больных».
По штату в амбулатории полагалась уборщица. Гаврила Степанович предложил эту должность Устинье с условием, что колхозной работы она не бросит.
Устинья была вдова, муж ее утонул три года тому назад, она честно вдовствовала, никого не подпуская к себе. Многие вздыхали по ней. Она и в самом деле была хороша: крупная и по-тяжелому красивая, на переносице сходились широкие сердитые брови, красная повязка обрезала гладко зачесанные волосы.
– Так, – значительно сказал фельдшер, в его мутных глазах блеснул хищный огонек. – Подойди-ка поближе, дяре?вня.
Через пять минут мужики, сидевшие на крыльце правления, услышали доносившийся из амбулатории неясный топот и крики. Вдруг с треском, сразу на обе рамы, лопнуло окно.
– Караул! – тонко закричала Устинья и выскочила на улицу.
В ту же секунду в окне показалась потная и красная физиономия фельдшера. Он ловко на лету поймал Устинью за юбку и пытался втащить обратно.
Шея председателя побагровела.
– Пусти! – закричал он так страшно, что Кузьма Андреевич вздрогнул. Председатель встал, подошел к окну.
Кузьма Андреевич подумал, что сейчас он ударит фельдшера.
– Ты, – сказал председатель, – ты моих колхозниц не трожь!
Он медленно закрывал раму, точно отгораживая фельдшера от колхоза стеклом.
Устинья срамила фельдшера последними словами.
– Уйди! – приказал председатель.
Она ушла, поминутно оглядываясь.
После продолжительного молчания Кузьма Андреевич сказал:
– Все говорит фельдшер-то: «дикость», «дикость». А от его же самого и происходит дикость!
Деревенская улица упиралась в лес; через сквозистые вершины сосен, через их чешуйчатые стволы широкими пыльными полосами дышало солнце и зажигало стекла в хрулинском доме.
– Елемент! – сказал, наконец, председатель. – Его бы за это в газетке предать позору. А тронь его попробуй. Уедет – и останемся без амбулатории.
Голос его звучал так, словно он извинялся перед колхозниками за мягкость своего обращения с фельдшером.
6
С германского фронта Тимофей пришел пузом вперед: гордился своей медалью.
В колхоз он вступил последним – было приятно, что Гаврила Степанович на глазах у всей деревни ходит за ним и уговаривает. Значит, он, Тимофей Пронин, для колхоза необходимый человек, и без него дело не пойдет.
Последующая жизнь в колхозе казалась ему цепью сплошных обид. Его не выбрали членом правления, а в хрулинском доме, на который он так надеялся, открыли амбулаторию. А если бы ее не открыли, то дом достался бы все-таки не ему, а Кузьме Андреевичу.
«Как вы со мной, так и я с вами», – решил Тимофей и бросил работать. Гаврила Степанович писал ему по трети и по четверти трудодня, но Тимофей был неисправим.
Однажды он попал в бригаду Кузьмы Андреевича. Устраивали подземное хранилище для картошки. Лопаты легко входили в плотную глину и до блеска сглаживали разрез. Рубаха Кузьмы Андреевича уже посерела от пота. Он оглянулся и увидел, что Тимофей сидит, свесив ноги в яму, и курит.
– Ты что же? – спросил Кузьма Андреевич. – А работа?
– Работа?.. – сплюнул Тимофей. – Работа, она дураков любит.
Кузьма Андреевич чувствовал на себе глаза всей бригады и понимал, что обязан дать Тимофею достойный ответ.
– Дураков?.. Я вот работаю. Я, значит, по-твоему, дурак?
– А ты что привязался? – закричал Тимофей. – Знаем таких! Ударник!.. Насчет нового дома! Знаем!
У Кузьмы Андревича перехватило дыхание.
– Язык бы тебе ножницами остричь, – озлобившись, сказал он. – А только я теперь все одно поставлю вопрос на правлении.
– А может, я больной, – сказал Тимофей. – Как ты имеешь право ставить вопрос, ежели я больной?
Весь день Кузьма Андреевич работал без отрыва: боялся, что, если сядет отдохнуть, вся бригада поверит в правильность слов Тимофея. Вечером, когда окончили работу, он сказал, неискренне усмехаясь:
– Выдумает… хрулинский дом…В хрулинском доме ныне амбулатория, а я все одно стараюсь для колхозного дела.
Никто не ответил ему, и он почувствовал, что этих слов не следовало говорить.
7
На следующее утро Тимофей выволок из хлева единственного своего гуся и топором отрубил ему голову. Кровь, пузырясь, ударила в сухую землю. Медленные судороги шли по гусиному телу, вытягивались, дрожа, красные лапы.
Баба ощипала и опалила гуся. Завернув его в чистое полотенце, Тимофей отправился к фельдшеру.
Специалист по нервным и психическим еще не вставал. Он встретил Тимофея весьма неприветливо, но, увидев гуся, смягчился.
– Положи на скамейку. Куды прешь в сапожищах! Оставь полотенце-то!
Тимофей с душевной болью накрыл гуся полотенцем.
В комнате из-под полотенца торчали красные перепончатые лапы гуся, из-под лоскутного засаленного одеяла – грязные ноги фельдшера с желтыми, восковыми пятками и слоистыми, как раковина, ногтями.
– Ну что? – сонно спросил фельдшер.
– Да вот. Животом мучаюсь. С ерманской войны. Как работа тяжелая, так мне смертынька.
– Давит?