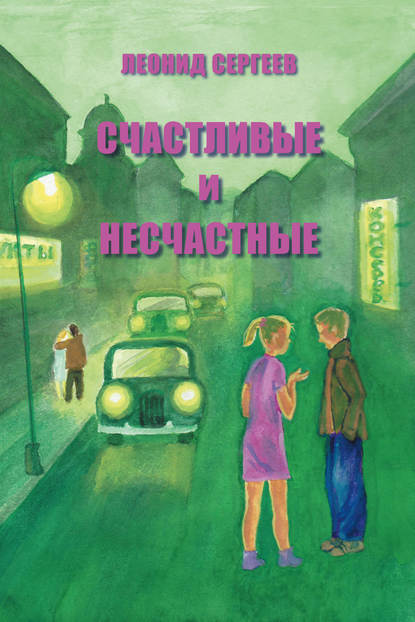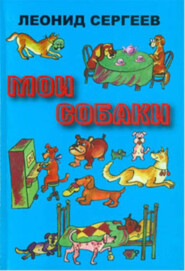По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Счастливые и несчастные (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Больше всех отпускал колкостей слесарь института Степан по прозвищу Коротышка, который обитал в подвальной мастерской. Коротышка был безумный тип: маленький, сутулый, почти горбун, да еще вечно угрюмый, с гнусавым голосом – со стороны он напоминал кривобокий снеговик с носом – красной сосулькой; от него постоянно несло машинным маслом и спиртным. Всех мужчин за глаза он называл «козлами», а женщин – «телками». Не раз его собирались выгнать из института за пьянство, но не могли найти замену.
– Кто сильно пьет, в крупном масштабе, тот и дела делает основательно, – ухмылялся Коротышка, ковыляя по институту с ящиком инструмента. – Ну, как дела с телками?
– С кривой усмешкой спрашивал он инженера, не глядя на него (он никогда не смотрел на собеседника, а зыркал глазами по сторонам, с нахальным видом сверлил сотрудниц).
– Небось, все вздыхаешь по этой новой телке?.. Сердце бабы надо завоевывать взглядом. Потом наплел ей что-то и в койку. На кобылку плюнь, тебе не обломится, у тебя не тот взгляд… А если башка по ней трещит, пропусти рюмку, враз полегчает. Водочка, она полезная вещь, помогает снять напряг, сосуды расширяет. Спускайся ко мне в подвал, налью. У меня в загашнике всегда припрятано.
«Не обломится, не тот взгляд!» – эти слова долго звучали в ушах инженера, но он все-таки рискнул еще раз встать на лыжню и добраться до финиша. Подождал новую сотрудницу после работы и, пока они шли до метро под снегопадом, вернее, он семенил рядом, еле поспевая за ее гулливерскими шагами, безостановочно говорил о своем «чисто любительском отношении к спорту», об авторской песне, о холостяцкой квартире с неплохой библиотекой, в которой есть книги и про конный спорт, и про фехтование… Она слушала безучастно, а у метро остановилась, смахнула с лица снежные хлопья и бросила на него убийственно-равнодушный взгляд.
– Неужели вы не поняли, что вы не мой тип мужчины? И не старайтесь напрасно, не выслеживайте меня.
На него как будто рухнула снежная лавина. Гулливерша исчезла за стеклянной дверью, а он долго стоял под снегопадом, смотрел на ее следы – слежавшиеся лепешки снега, похожие на вафли; стоял, точно замороженный, пока не превратился в белую статую.
Снег валил всю последующую неделю, засыпал город по первые этажи; чтобы выбраться из подъездов, дворники копали траншеи; снегоуборочные машины не справлялись со снежным валом, и местами встал транспорт.
Всю неделю инженер бурно переживал свое поражение. Пламя в груди утихло, но опалило все органы – они разболелись так, что врачи нашли перерасход энергии, истощение, и выписали больничный лист.
Страдание в любви всегда идет на пользу – открываешь в себе что-то новое; особенно страдание в снегопад – обостряются все чувства. Пока инженер болел, у него было достаточно времени, чтобы посмотреть на себя со стороны и сделать кое-какие поправки в своем образе жизни, а главное – во внешнем образе. Прежде всего, чтобы развеять слухи о парне-«душке», он станет серьезным и строгим, неприступной ледяной скалой; больше никто не получит от него ни улыбок, ни комплиментов. Оказывается, его приветливость, дружелюбие принимались за бесхарактерность, но теперь он покажет характер. Во-вторых, станет «настоящим мужчиной», сдержанным, твердым, даже будет, как все, немного выпивать спиртного во время институтских застолий (раньше пил только лимонад). Он докажет, что многого стоит, что она недооценивает его.
Он вышел на работу другим человеком и так умело играл новую роль, что по институту прошел тревожный шепоток, который, словно снежный ком, обрастал еще более тревожными слухами. Но игра далась ему нелегко; к обеду от напряжения разболелась голова и он, вспомнив средство Коротышки о «снятии напряга», направился в подвал-мастерскую.
Он открыл дверь и оцепенел – из подвала прямо-таки вырвался снежный вихрь. Коротышка полулежал, развалившись в кресле, а на нем… сидела она! Сидела, широко раскинув длинные ноги, запрокинув голову, и страстно-яростно дергалась, точно исполняла финты фристайла, при этом одной рукой вцепилась в волосы Коротышки, другой закрывала себе рот, чтобы не кричать, но и от ее стона инженер оглох. У него перехватило дыхание; не в силах противостоять напору ветра, он несколько секунд глазел на дикую сцену; в одну из этих секунд она повернулась в его сторону и, сквозь снежную пелену, он заметил совершенно невидящий осоловелый взгляд. Больше всего в этой сцене его поразили ее ноги, белые, округлые, как две упавшие колонны. Он закрыл дверь, и уже вовсю бушевавшая в коридоре метель чуть не бросила его на пол; чтобы не упасть, он ухватился за косяк двери.
Его шок длился минут пять, и все это время он озирался вокруг, но ничего не видел, точно оказался в запотевших очках. Потом он встряхнулся и подумал, что яростный кошмар ему померещился, что во всем виновата разыгравшаяся в институте пурга; он снова чуть приоткрыл дверь. Они уже поменяли позу: теперь он был сверху, как гном на великанше. Собственно, самого Коротышку инженер и не различил, его вновь поразили ее ноги – они вздымались до потолка, как два белоствольных дерева.
Он был уверен – на следующий день ее замучают стыд и позор, при встрече она зальется густой краской и убежит с подавленным рыданьем или вообще не выйдет на работу, а в дальнейшем уволится и исчезнет, как внезапно сгинувшая зима, но не тут-то было. Как обычно, она невозмутимо и холодно ответила на его приветствие и, не дрогнув, без тени смущения прошагала мимо, размахивая руками, точно лыжными палками. Казалось, все произошедшее для нее – то же самое, что для него спуск с горы, или даже меньше – прогулка по лесу, или совсем мелочь – чашка кофе из термоса.
До завтра!
Самые лучшие компании, в которых я бывал, – компании джазовых музыкантов. Когда собираются мои знакомые писатели, они, испытывая жгучее беспокойство, говорят о гонорарах, упорно заставляют слушать свои писания, вешают друг на друга ярлыки; когда собираются мои приятели-художники, они, распалив неконтролируемое воображение, говорят о картинах, над которыми работают, и в их словах сквозит неутолимое желание прославиться, под конец они непременно крепко выпивают и в винных парах взахлеб болтают о женщинах; когда собираются мои друзья джазовые музыканты, они играют!
Вот уж одержимые люди! Ради музыки они отказываются от многих благ и удовольствий.
Меня окружает немало практичных людей; одни из них охвачены лихорадкой накопительства, вещизма: приобретают машины, строят дачи; другие из-за границы привозят шмотки, во всем стремятся перещеголять друг друга и никак не могут угнаться за своими дурацкими мечтами. А мои друзья-музыканты обитают в коммуналках, не вылезают из долгов, плохо обуты и одеты – некоторые всю жизнь не имеют костюма, – но скопили деньги на инструменты и при случае отдают зарплату за пластинки. Некоторые из них, получая гроши, играют в кафе, а остальные по вечерам кочуют из одного увеселительного заведения в другое, запросто забираются на сцену и присоединяются к играющим. И это так же естественно, как завалиться ночью с компанией к близкому другу.
На сцене они сильно заводят друг друга, особенно если врубят какую-нибудь зажигательную вещь, ну хотя бы «Как высоко луна». Раскочегарятся – дальше некуда, весь зал трясет от их огня. А они знай себе посмеиваются, подмигивают друг другу, отпускают шуточки. Остроумные все, черти! Да и как не хохмить, ведь джаз в сущности веселая штука. Отыграв соло, раскланиваясь и улыбаясь, смахивая капли пота, они один за другим отходят в глубину сцены и оттуда, отбивая такты ногами, искренне восхищаются каждой отлично сыгранной фразой товарища. Вот это особое взаимопонимание, доброжелательное отношение друг к другу, искренняя радость от успеха других и отличают джазистов от всех других кланов.
На фестивале в Таллинне, когда десяток музыкантов из разных стран играли одну тему, я понял, что джаз еще и интернациональная штука. Но главное открытие, которое я сделал, слушая джаз, это то, что подобная музыка способна моментально поднять настроение или наоборот – заставить грустить. Стоило, например, послушать «Лору», как многое в жизни казалось ненужной суетой; стены кафе расширялись, меня обволакивала какая-то теплынь, и, ощущая романтическую приподнятость, я переносился в яркие, светлые дни, становился тем, кем хотел быть, перед глазами появлялось то, что хотелось видеть.
Мне удивительно повезло: я застал время зарождения русского джаза. В те бурные шестидесятые годы в Москве открылся джаз-клуб, сколачивались ансамбли и одно за другим появлялись кафе – «Аэлита», «Молодежное», «Синяя птица», «Романтики». Окрыленная свободой молодежь смело утверждала себя. В кафе устраивали выставки художники-неформалы, читали стихи непризнанные поэты, пели первые джазовые певицы. Долгое время мы жили в духовном вакууме, без информации и общения с зарубежными сверстниками; пробивались, как ростки из-под асфальта, и вдруг – заграничные фильмы, пластинки, а главное – делай что хочешь и выноси на суд в кафе. Именно кафе играли первостепенную роль в формировании новой эстетики, новой культуры общения.
Сейчас на каждом шагу другие кафе, в которых разные ритм-группы через усилители обрушивают на слушателей ураган звуков и длинноволосые парни завывают писклявыми голосами. Как ни силься, мелодии у этих музыкантов не уловишь, один скачущий напор, невразумительный каскад звуков; взрывы гитарных аккордов, уханье не барабана, а парового молота, хрипы, стоны, вопли, какие-то хронические экстазы – чумовая эстрада разбивает мозги. Длинноволосые парни выучили три аккорда, научились щипать гитары, но понятия не имеют, что такое мелодичность. В этих кафе редко увидишь танцующих пластично и страстно, как тогда, в шестидесятые, когда танцевали буги-вуги и рок-н-ролл. Сейчас в основном дергаются осоловелые джинсовые парочки, с выпученными глазами изображают припадочных, и кричат, и воют. Когда я на них смотрю, мне по-настоящему жаль, что эти молодые люди не приучены к классическому джазу, что они лишены удивительного искусства импровизации.
Трагедия в том, что бум свободы длился недолго и вскоре «непонятную» музыку, как вредоносную, вновь запретили. Но сейсмическое эхо сработало: то тут, то там полулегально продолжали играть джаз, правда, все реже, да и уже менялись вкусы – вовсю наступала примитивная массовая культура.
Я часто вспоминаю то золотое время, когда в кафе не только танцевали, но и слушали джаз и после каждой красивой вариации раздавались аплодисменты, восторженные восклицания. Это и понятно, ведь современный рок – всего лишь форма протеста, динамика состояния, а классический джаз – огромное музыкальное пространство, динамика чувств, определенная экологическая ниша. Рок выполняет не музыкальные, а социальные функции, а джаз – музыка свободных людей, для которых духовная жизнь и личное откровение – некий собственный Бог. Это подтвердит каждый, кому сейчас за сорок.
Наши первые джазовые музыканты учились мастерству у великих негритянских джазистов, развивали их знаменитые фразы, вносили в них свой национальный колорит, обогащали джаз фольклором. Одним из блестящих трубачей был Андрей Товмосян, человек, который самостоятельно научился играть на трубе и в своем мастерстве оставил далеко позади музыкантов, имеющих консерваторские дипломы.
Впервые я его увидел в «Аэлите» на Садовом кольце около Каляевской улицы: на сцене стоял невысокий сутулый человек с длинным носом и играл какую-то балладу в духе Клиффорда Брауна – этакая кружевная манера, причудливая и нежная, – прямо-таки фигурное катание в воздухе. Играл негромко, с недосказанной, как бы смазанной варьировкой, и все время около темы Гарнера «В тумане». Это было какое-то священнодействие – он совершенно околдовал меня. Я как вошел, так и остался приклеенным к двери. Перед ним зал оглушали лавиной звуков какие-то саксофонисты. Я слышал их из раздевалки. И вдруг… это звуковое облако: мелодичный рисунок, тихое откровение, утонченные, совершенные вариации, так называемый прохладный джаз. Какая-то хорошая грусть, как выдержанное вино, наполняла меня все больше и больше, пока я окончательно не раскис. Эта музыка, преображая окружающее, звучала во мне и в последующие дни, я не мог работать, все валилось из рук…
Позднее это состояние я испытывал каждый раз, когда слушал приглушенную игру Андрея. Что и говорить, он был чуткий, тонкий музыкант. А как человек – замкнутый, необщительный, мнительный, с болезненным воображением; в «музыкальной» компании сидел насупившись, а то и вообще отключившись – слушал музыку, но краем уха улавливал все разговоры и время от времени отпускал колкости в адрес приятелей. Очень любил посмеяться над другими, но жутко обижался, когда подтрунивали над ним.
– Непрозрачный человек, – говорили о нем.
А по-моему, он был очень прозрачный, и потом, чтобы так волшебно играть, нужно иметь доброе сердце.
Андрей жил в большой комнате, среди прекрасной неразберихи. У него почти не было мебели, только тахта, стол и старое кабинетное пианино. Зато вдоль стен стояли штабеля магнитофонных записей, старинных и редких книг, причем совершенно разных: Верлен соседствовал с кулинарией, «Система йогов» – с книгами по психиатрии. Андрей писал мрачные стихи с черным юмором и пародии на приятелей.
Когда я к нему заходил, мы слушали музыку, говорили о литературе, под конец Андрей брал трубу, надевал сурдину, чтобы не ворчали соседи, и играл любимые вещи. Как многие одаренные натуры, он был противоречив и у него частенько случались перепады настроения. Как-то весело проиграл свою пьеску, разулыбался:
– Как ее назовем? Может, «Солнечный день»?
Потом вдруг помрачнел и проиграл эту же вещь грустно.
– А может, «Пасмурный день»?
За глаза Андрей называл меня «гениальный безумец», несколько преувеличивая мои способности. Ничего гениального, да и просто стоящего, я не создавал, а «безумец» – совсем неточно, я нормален до неприличия. Думаю, ему просто нравилось сочетание этих слов. Мне оно тоже нравилось.
Джазу Андрей отдавал все свое время; с человеком, не любящим джаз, он и разговаривать не стал бы – у него эта любовь была чуть ли не помешательством. Однажды мне заявил:
– Если я когда-нибудь женюсь, моя жена будет музыкантшей, от нее будет веять музыкальностью.
Эти слова я вспомнил через несколько лет, когда сидел с его женой на фестивале джаза в МИИТ. Андрей на сцене заканчивал блюз и, как всегда, последний квадрат играл ниже, чем предыдущие. Я был весь там, в музыке, и вдруг меня толкает локтем жена Андрея и спрашивает:
– Тебе нравится моя новая шляпа?
На ней красовалась не шляпа, а корзина с фруктами, ее лицо тонуло в косметике. Она была безвкусной женщиной, хотя работала портнихой, – одевалась с претензией неизвестно на какую моду, напяливала на себя все, что имела, и представлялась «модельершей». Глупая, но с претензией, она вечно помыкала мужем и при этом строила из себя наивную овечку. Она старалась быть на виду (садилась так, чтобы все оценили ее «линии»), постоянно строила глазки друзьям мужа, подогревая его ревность. Из-за нее Андрей вечно дулся то на одного приятеля, то на другого. Я сразу ему заявил, что она не в моем вкусе. Он ухмыльнулся, посмотрел на меня как на идиота, но с того дня привязался ко мне еще сильнее.
Все-таки после того концерта в МИИТ он встретил меня с надутой физиономией, прохладно, точнее – с ледяной суровостью. «Что такое, – думаю, – всегда улыбался, а тут еле процедил – Привет». Я стал перебирать в памяти последнюю встречу – вроде все было в порядке.
– Андрюш, – говорю, – в чем дело? Может, я обидел чем?!
– Чем, чем! Пока я играю, вы кадритесь.
С тех пор я обходил стороной его «модельершу».
Одним из первых наших джазовых музыкантов был и Герман Лукьянов, который считал себя лучшим трубачом в мире. Красивый внешне, он не пил, не курил, не ел ни мяса, ни рыбы, не мог долго находиться в одной компании, долго терпеть одного собеседника – его все раздражали. В кафе он никогда не появлялся с девушками; в их обществе корчил напускное безразличие, а то и болтал о «любовных» победах. Только однажды со мной разоткровенничался:
– Женщина, как правило, навязывает мужчине иллюзии, зачаровывает, околдовывает, парализует его волю, ощущение реальности. Я живу с матерью. Ни одна женщина не заменит мать.
Чувствовалось, слабый пол сильно ему насолил.
Герман – единственный, кто выпадал из всего джазового братства. Он стоял на сцене прямо, с каменным лицом, таинственный и недоступный, играл с открытыми выпученными глазами и никогда не улыбался. Отыграв ураганное начало, сразу уходил в какие-то мудреные завывания. Перед тем как с ним познакомиться, я слышал о нем только плохое, и как о музыканте, и как о человеке. Многие музыканты падали от смеха со стульев, когда он играл «колмановские» штучки, другие ухмылялись и отмахивались, кое-кто просто-напросто поносил его замысловатую игру. На это он позднее невозмутимо заметил:
– У каждого должно быть столько же друзей, сколько и врагов.
В зале действительно всегда сидели его поклонники и в молчаливом изумлении, затаив дыхание, ловили каждую ноту кумира, а после «потусторонних, запредельных» импровизаций стонали от восхищения.