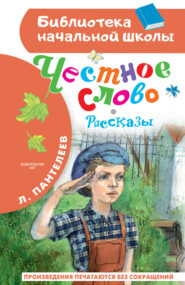По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История моих сюжетов (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нужно было что-то делать и нашей маме. О работе и речи не могло быть.
Кто-то надоумил ее открыть на Сенной чайную. Денег у нее не было. Один пай внесла тетя Тэна, другой – в виде каракулевого сака – тетя Аня. Мамин пай был – ее труд. Крохотную чайную в два окна, на пять-шесть столиков назвали «Теремок». Недолгое время работал там в качестве официанта и я. На крохотной кухне работала Ира.
Вообще-то я учился в советской единой школе, в б. гимназии Гёде на Екатерининском канале, угол Фонарного переулка. (Был там среди моих товарищей сын портного Изя Шнеерзон, несколько лет спустя кончивший самоубийством, была девочка, носившая бойскаутскую шляпу. Сохранялись нравы, о которых повествуется в «Леньке Пантелееве». Но Володька Прейснер, журнал «Ученик», история с Карлом Марксом и др. – или выдумано, или почерпнуто из других периодов жизни.)
…Одним из завсегдатаев чайной «Теремок» был Василий Васильевич Осипов, высокий красивый ярославец, полуоптовый торговец мясом. Чем он пленил нашу маму, этот полуграмотный человек, не знаю. Он был женат, жил неподалеку, на Мещанской улице. Сильно пил (загадка творчества: почему-то этот грех я перенес с отчима на отца).
Однажды, когда Василий Васильевич (или Васвас, как звали его мы с Васей и Лялей) сидел в «Теремке» и потягивал из стакана самогон, туда прибежала девочка и сказала, что жена его – сгорела.
Женщина эта разжигала примус, он почему-то вспыхнул, она схватила его и выбежала на лестницу. Там и охватило ее пламя.
Жила она четыре дня.
Все эти четыре дня мама наша не отходила от нее, не спала ни одной ночи.
Женщина умерла.
Когда, в каком году это случилось, – сказать не могу, не помню.
«Доход», который давала чайная, был мизерный. Сытым я себя не помню. Тут и начались лампочки, магазин «ПЕПО», «кручу-верчу» и многие другие проделки, о которых я в повести – да и нигде вообще – не упомянул.
Дважды я «печатал пальцы» в угрозыске.
Михаил Петрович открыл к этому времени в Горсткиной улице лимонадный завод под фирмой «Экспресс». По просьбе мамы он взял меня «в мальчики». Его компаньоном был человек по фамилии Краузе.
Захар Иванович (фигура яркая) от начала до конца выдуман.
Я доставлял много огорчений маме.
Наконец я попал (кажется, после «операции» в «ПЕПО») в очередной раз в уголовный розыск, оттуда в детский распределитель (или приемник) на Б. Конюшенной, затем под конвоем в Комиссию по делам несовершеннолетних, откуда и получил направление в школу им. Достоевского.
Когда это случилось, не помню. Не знаю даже, летом или зимой.
Я уже был несколько месяцев в Шкиде, когда маме сделал предложение мой будущий отчим В. В. Осипов. никаких точных сведений о гибели моего отца не было, мама и по церковному, и по гражданскому праву считалась замужней. За разрешением на новый брак ей пришлось обращаться к митрополиту Петроградскому Вениамину. Но этого ей показалось мало. В первый приемный день она приехала ко мне в школу им. Достоевского и сказала, что без моего согласия замуж не пойдет. Страшновато вспоминать этот день. Отца я любил, не терял надежды, что он жив, но я не только благословил маму на брак, но и согласился быть шафером на ее свадьбе.
На Мещанской маме жилось нисколько не лучше, чем до этого. Василий Васильевич пил, дела его шли из рук вон плохо… Будучи женой торговца, маме приходилось делать тряпичные куклы, потом – искусственные цветы. (Давно мечтаю – и вряд ли эта мечта осуществится – написать правду о нэпе). О нэпманах не только у молодого современного читателя, но и у людей пожилых представление самое лубочное – по карикатурам В. Лебедева, К. Рудакова и др. Нэпманы были, конечно, и такие – толстопузые, в ботинках «Джимми», в брюках дудочками, а нэпманши – в фетровых ботиках и меховых шубках. Но среди тех, кого я знал, таких не было. Богатыми нэпманами (но не такими, опять-таки, не карикатурными) были до поры до времени и Михаил Петрович с Раисой Васильевной. Нэпманом был старый, дореволюционный, весьма респектабельный коммерсант Краузе. Но нэпманшей считалась и тетка Васвас, дряхлая старуха, торговавшая на улице деревянными ложками. В конце двадцатых годов эту «нэпманшу» лишили избирательных прав и выслали из Ленинграда. Василий Васильевич и жена его, моя мать, тоже были лишенцами…
…Выйдя из Шкиды, я поселился на Мещанской, спал на сундуке в коридоре. Вася работал в частной мастерской Солуянова учеником слесаря, потом перешел в кондитерскую…
До этого торговал на рынке, в пивных и чайных – искусственными цветами. Этим же занимались и мы с Лялей. И даже некоторое время Гриша Белых. Позже мы торговали с ним газетами… (Все это должно было войти в повесть, которую я очень долго и мучительно писал и не дописал. Как я сейчас понимаю, задуманная как продолжение «Республики ШКИД», она никак не смыкалась, не склеивалась с этой легкодумной, далекой от настоящих жизненных трудностей повестью.)
Мы с Гришей начали понемногу печататься. В «Кинонеделе», потом – в юмористическом журнале «Бегемот».
Я сочинял анекдоты и подписи к карикатурам. Носил их полсотнями и больше в «Бегемот» на Фонтанку. Там милый, по-петербургски интеллигентный человек, секретарь редакции В. Черний проглядывал мои анекдоты и отбирал из полусотни – один-два. За анекдот или подпись под рисунком платили бешеные деньги – шесть рублей!
Отчим, который называл меня почему-то «комсоголец», один раз сказал мне:
– Эх, ты, голова садовая!..
– И не Садовая, а Третьего июля, – ответил я и сразу же поймал себя на мысли: «Готовый анекдот».
Записал, снес в «Бегемот» и в ближайшем номере увидел этот шедевр напечатанным.
(Старинная Садовая в довоенные годы называлась улицей Третьего июля.)
Остается сказать, что на поиски кинематографического счастья мы направились с Гришей летом (в самом начале лета, по-видимому) 1924 года. Мама не могла дать мне денег на дорогу, дала самое ценное, что у нее было, – пачку, в полпуда весом, цветной рогожки, в какую обертывались корзины с искусственными бульденежами[1 - бульденеж («снежный шар») – кустарник (декоративная форма калины), шаровидные соцветия используются для срезки и аранжировки букетов.]. Эту рогожку мы мучительно долго продавали в Москве на Сухаревке, с трудом нашли покупателя.
…Доскажу то, чего не досказал, или то, что еще вспомнилось.
В Харькове я несколько дней работал учеником киномеханика в кинематографе (кажется) «Маяк». Устроил меня (одного из нас) человек по фамилии Невский, какой-то деятель, кажется, профсоюзный, оказавшийся питерцем. Как мы к нему попали, хоть убейте, не помню. Он дал нам записку к механику этого «Маяка». Именно в эту минуту, когда мы сидели на ступеньке проекционной будки и ждали механика, у Гриши и возникла мысль о возвращении в Питер. Слишком ничтожным показался ему результат нашего кинопутешествия: вместо лавров киноартистов или режиссеров – работа мальчиком в кинобудке. Да еще надо было тянуть жребий: кому? После решения Гриши этот вопрос отпадал. Мне работа понравилась, но у меня не было ни жилья, ни прописки, оформить меня на работе не могли.
…Харьковские и вообще украинские и южнорусские впечатления отражены в рассказах «Портрет» и «Часы».
Аркашку я встретил именно в это время. Но соблазнить меня, как соблазнил он в повести Леньку, ему не удалось.
На Украине я встретил слепого нищего, раскулаченного мельника. Недели две-три я был его поводырем. Сам не просил, но – ел милостыню.
Эти мои приключения и злоключения были куда сложнее, интереснее выдуманных злоключений «Леньки Пантелеева» – тем, что тут была внутренняя борьба, и мне удалось выйти из нее победителем.
Говоря коротко – после Шкиды я и Гриша ни разу не взяли ничего чужого. А ведь очутился я в обстоятельствах куда более сложных, чем 2–3 года назад.
Маму я не хотел расстраивать, писал ей радужные завиральные письма. Но пришел день, когда я не выдержал и написал ей, что «в данный момент» оказался «не при деньгах». Она перевела мне – сколько сумела: три рубля. Было это еще в Харькове. Я стоял на почте в очереди к окошечку «До востребования». Перед этим три дня ничего не ел, «только воду стегал» (и съел еще, помню, вымыв его предварительно в струе городского фонтана, огрызок абрикоса). И вот, не доходя почтового окошечка, я обессилел, зашатался и упал. Первый раз в жизни. Второй был зимой 1942 года в блокадном Ленинграде (что такое голод и вообще что такое фунт лиха, я рано узнал, это лихо долго ходило за мною по пятам).
* * *
Дохлый котенок в кармане – тоже в эту пору моих скитаний.
* * *
Из Ченцова два раза убегал – в Петроград (когда мама уезжала туда). Один раз с восьмилетним Васей. Дошли до г. Нерехта Костромской губернии. Пришли туда поздно вечером, было уже темно. Навстречу шумная толпа мальчишек. Я говорю:
– Скажите, пожалуйста, где тут гостиница?
И на всю жизнь запомнился дружный хохот и чей-то голос:
– Свалились, когда с горы скатились!..
Второй раз такой же неудачный побег – с тринадцатилетней Ирой.
* * *
Отчим Василий Васильевич был ярославец, деревенский, из-под Углича. Мальчиком его привезли в Питер – в корзинке, чтобы не платить за билет. Об этой корзинке он, подвыпив, любил рассказывать нам – пасынкам – в назидание.
* * *
Мне было трудно жить с отчимом. Когда я вернулся в Ленинград с юга, кто-то нашел мне комнату – в доме, где жил, по преданию, Раскольников. Комната эта была совсем в духе Достоевского. Узкая, как щель, на пятом этаже. Окно – на потолке, так наз. «верхний свет». Сестра моя вспоминает, с каким трудом она и Гриша Белых втаскивали по узкой питерской лестнице старую железную кровать – в это мое жилище.
Потом я поселился у Гриши, в крохотной комнатке возле кухни, в первом этаже, с окнами на второй двор (Измайловский, 7, кв. 92. впрочем, не Измайловский, а проспект Красных Командиров. Так называлась эта улица с 1918-го по 1944 год).