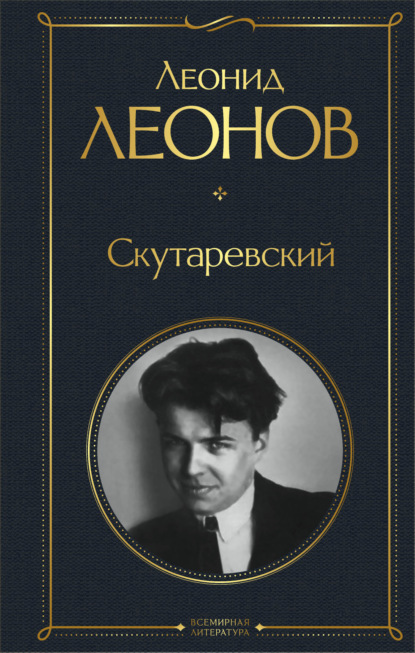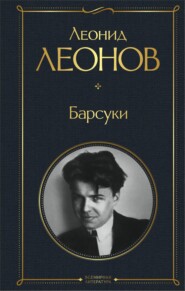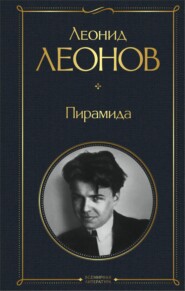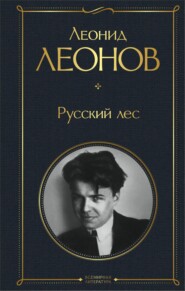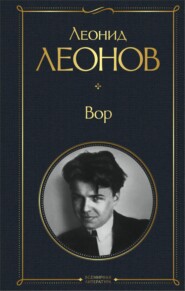По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скутаревский
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это хорошо, знаете, валяйте. Я вам скажу по секрету: в мире нетрудно, судьбы нет, но себя… себя надо брать за холку и этак к земле, к земле! – И он энергично рванул воображаемое. – Жить вы будете у меня… Чего же вы стоите?… Раздевайтесь, снимайте свою попону, здесь не украдут! И пойдем завтракать, я тут проголодался с вами… Ну-с!
– Не могу, – глотая слюну, молвил Черимов. – Поесть охота, а… не могу!
– Торопитесь?
– Не, на мне штанов нет, – выпалил тот и даже зажмурился; даже лицо у него стало какое-то отвлеченное. – Они были, бог душу вынь, но… мы их третьего дня на сало сменяли. Полустанок Егорово, слышали? Фельдшеру… а полустанок Егорово.
– Потрясающе! – от души тешился Скутаревский. – Но ведь без штанов нельзя. Без штанов даже на войне неприлично. Черт, даже памятники в штанах. Так, значит, фельдшеру Егорову?… Слушайте, штаны я вам дам. Но, позвольте, значит, их и у Сеньки нету? Эй, Арсений… – закричал он, лицом к двери, – …убивец!
В кабинет, с руками, полными ножей и вилок, вбежала горничная в наколке; даже и на голодном режиме того года мадам соблюдала этикет.
– Они в ванне, – строго сообщила она.
Сергей Андреич посмотрел на грустное, давно не мытое лицо, все еще торчавшее перед ним, и комически развел руками:
– Вот видите, они уже в ванне! – И в первый раз, без особой выгоды для сына, сравнил их со стороны.
В профессорском доме, однако, Черимов прожил только неделю; от дальнейшего гостеприимства он благоразумно уклонился. Анна Евграфовна чересчур откровенно запирала от него ящики, и, кроме того, привкус чужого, хотя бы и сладкого хлеба никогда не приходился ему по нраву. Вторую неделю он прогостил у знакомого заделыцика со стекольной фабрички, где когда-то и сам тянул драты. В эти раздумчивые дни, шатаясь по улицам, он составлял план своего дальнейшего наступления. Мир был огромен, рыхловат и богат; он был подходящим материалом для неспокойных его рук. К дядьке вовсе не тянуло; голод привел его на ту же фабричку, и целых полгода, по старой памяти, он выдувал какие-то головоломные флаконы для всяких пахучих специй. Восхождение его началось с рабфака, вступительная наука показалась простой, она запоминалась легко, как номера партбилета и нагана. Потом стало труднее, учебе придавалась фронтовая значимость; самый мешок не успевал вместить ссыпаемого в него зерна. Черимова спасал только спорт. Ему дали стипендию и послали учиться выше. В течение шести последующих лет он не имел никакой личной жизни; вехами в его однообразных буднях служили лишь прочитанные книги. Он читал все подряд, и даже, если ветер нес по улице клочок печатной бумаги, его тянуло заглянуть в него. Ему удалось заслужить уважение профессоров, один оставил его у себя для продолжения научной работы. И когда однажды инженер Арсений получил из неизвестности брошюрку с безвестным именем Черимова, он и не подумал, что автор ее и есть Колька; он свалил это на неряшливость почты и даже не заглянул вовнутрь.
Черимов не оглядывался назад, и, только внезапно получив бумагу о назначении в институт, где когда-то ему предлагали место курьера, он оценил огромность пройденного пути. На минуту мальчишеской радостью захватило ему дух и захотелось скорее показать себя в новом, обструганном виде человеку, одобрение которого стало бы ему высшей похвалой. Государство еще не имело достаточного количества ученых, ему не из чего было выбирать, и сама по себе посылка на ответственную должность не могла считаться признанием высокой пригодности… На столе лежала толстая пластина зеркального стекла; все еще держа в руках путевку, он опустил глаза и там, среди недвижных отражений, увидел прежде всего жесткую, волевую складку у себя на переносье, почти шрам, который нанесла ему жизнь. Дальше, под стеклом, лежала бумажка с аккуратным расписанием дня; в три предстояло заседание; он опаздывал. Радость окончилась, он поднялся совсем иным человеком, и стало грустно, что никто в мире, кроме Арсения, не посмеет назвать его по-старому Колькой.
Черимовское назначение в заместители задержалось на целых полгода; вначале предполагалось командировать его просто для научной работы, когда же выяснилась необходимость приблизить деятельность научных учреждений к экономической практике дня, смысл посылки круто изменился. Петр Евграфович, ухитрявшийся своевременно узнавать обо всем, предупреждал Сергея Андреича через сестру о назначении комиссара и даже сопроводил это крайне нелестными характеристиками; Анна Евграфовна с перепугу что-то забыла, что-то придумала сама, и до Сергея Андреича дошла такая ахинея, что и смеяться не стоило.
Новое начальство пришло к институту пешком, в свежее январское утро, задолго до полудня; оно позвонило у ворот и спросило заместителя директора, но тот еще не приезжал. Черимов прождал час, погулял по коридорчикам, перечитал прошлогоднюю, но за чисто вымытым стеклом стенгазету, потом отправился бродить по институту, и, хотя все здесь было засекречено, никто его не остановил. Только у входа в высоковольтный зал стыкнулась с ним хлипкая, облезлого вида особь: «Вам к Скутаревскому?» – «Да, к нему», – машинально ответил тот и прошел мимо. Где-то в углу позади черных трансформаторных цилиндров мерно и оглушительно пощелкивала энергия; эхо обманывало, и казалось, что прямо над самой головой лопаются баллоны с озоном. Гулкое это помещение не имело ни одного окна; слепительный лампион покачивался посреди прохладного пространства, точно отдуваемый ветром от движущегося Скутаревского, и всюду – в темной глубине масляного бассейна, в отполированной меди разрядников, глазурованном кафеле стен – единовременно раскачивалось отражение звезды. Поднявшись по винтовой лестнице, Черимов увидел Скутаревского. В одном жилете, наклонясь над перилами, он грозил пальцем монтеру внизу; та же звезда раскачивалась у его ног в маслянистом глянце пола.
– …того, имейте в виду, что алкоголь проводник, понятно, Касимов? В следующий раз вон… – Он обернулся и увидел Черимова. – Э, кто? – Он потер лоб. – А, припоминаю… это вам я штиблеты дал.
– Вы мне штаны дали, Сергей Андреич, – поправил Черимов, здороваясь.
– …штаны? Да, в полоску. Хорошие штаны. Штиблеты – это тому, прыщавому. Не знаете, где он теперь?… Хм, не знаете. Ну, принесли назад?
– Нет, износил, – засмеялся Черимов. – Вот приехал представляться. Официально прихожу к вам заместителем, а по существу учеником…
– Я слышал, да. Значит, подучились? – он вскинул пристальные глаза. Он был в работе, и еще шел от него жгучий ветер из глаз, из самых его растопыренных пальцев. – Но ведь у меня есть заместитель по хозяйству, Селянов, слыхали?… Моложавый такой, в золотых очках…
– О нем было уже постановление, Сергей Андреич. Видите ли, он оказался бывшим прокурором судебной палаты. В свое время он обвинял группу товарищей, в которой был и…
– Прокурор? – И сипло, простуженно захохотал; машина внизу перестала хлестать слух своими разрядами, и теперь это был единственный во всем зале звук.
Скутаревский стоял боком к Черимову, но вдруг повернулся и брюзгливым, чуть прищуренным глазом смерил своего будущего помощника. Всякие, даже такие чудесные превращения человека он считал естественными: к людям он относился до жестокости строго. Несомненно, имелись у этого молодца в жалком мятом галстучке особые качества, оправдывавшие его назначение.
– Он был странный человек, Селянов. И хотя я люблю чудаков, но, черт, нельзя же в кабинете у себя пасьянсы раскладывать… все-таки тут не судебная палата. Так вы говорите, прокурор? – И опять захохотал. – Вот, охрип совсем, плохо топят, – рвал он как ни попадя слова и вдруг уперся холодным, сухим вопросом: – Формулу Пика помните?
– Нет… я работал последнее время по аппаратостроению.
– Так вот, Пик наврал, – заметив смущение Черимова, неохотно бурчал Скутаревский. – Коронирование идет лишь до полумиллиона вольт, а дальше все его рассуждения летят к черту. Чудно это вышло: ассистент наш от семейного огорчения уронил разрядник и испортил форму… Впрочем, вот, Иван Петрович, объясните сами товарищу. Знакомьтесь, это Геродов!
Здесь, на этой длинной галерейке, был не один; за пультом стоял пожилой человек, в синем комбинезоне, скромный и приятный взгляду. Он нехотя оторвался от вычислений, которые чертил карандашом на листке, сбоку мраморной доски; он был в очках, которые чудовищно увеличивали его глаза.
– …получилась метина, триста целковых убытку, карикатура в газетке, – знаете, как это у нас? – пояснил он. – Но результат стоит больших тысяч… потому что если изменить формулу токоведущих частей…
– Да, понимаю.
Черимов рассеянно кивал, разглядывая ораву чудовищ, хозяином которых становился.
Скутаревский снова свесился вниз:
– Ханшин, не уходите… сейчас начинаем. – Он мешковато помялся, припоминая институтские непорядки. – А с курьершами ладить можете? У нас их достаточно, но они учатся управлять государством… черт, я не против: когда они выучатся, я уже умру. – И с любопытством покосился на собеседника, как тот примет эту пробную шпильку, но тот промолчал, лишь опустив глаза. – Но пока мне нужны просто курьерши. Очень тяжелая жизнь, знаете, тяжелая. И потом отучите эту балду… вон, внизу, пить. Убьет током, а меня засудят за недосмотр… Иван Петрович, прошу…
Возрастая в силе, подобно сирене, поднялось гуденье снизу. Люди отступили по углам и, кажется, стали меньше ростом. Похоже было, будто мириады электрических существ заторопились выйти на скользкую полированную медь. Так продолжалось четверть минуты, пока электрические брызги не прорвали тишину.
– Триста восемьдесят тысяч, – сказал глуховатый голос у пульта.
– Шпарьте дальше.
Еще с минуту длилось ожиданье, напоенное низким трансформаторным гудом. Вдруг поток скачущих молний, свивающихся в слепящий столб, родился между полюсами. Обнаженная, сконцентрированная до физической плотности, мчалась к своему равновесию энергия, и треск ее походил, как если бы тысячи остервенелых людей рвали на клочья летящую, распластанную в урагане ткань. Злое, обжигающее глаз божество это остро пахло озоном. Лампион на мгновенье затмился. Иван Петрович разомкнул цепь и отошел от пульта. «Опять пятьсот восемьдесят», – жестяным голосом сообщил он в опустошенной тишине.
Скутаревский стал надевать пиджак:
– Так вот, оставайтесь, молодой человек. Помогите ему посрамлять иностранца.
Разумеется, это было также пробной штучкой старика и, возможно, экзаменом; по крайней мере, так понял Иван Петрович внезапное исчезновение директора. Во всяком случае, повествуя об истории открытия, он углублялся в такие дебри, точно и Черимова заодно с Пиком собирался устыдить в невежестве. Несколько позже, узнав поближе тогдашнего собеседника, Черимов понял, что это была просто страховка себя перед незнакомым коммунистом… Он действительно остался, – этим закончилась научная карьера прокурора и началась собственная черимовская биография; все предшествующее Черимов считал лишь подготовкой к ней… Впрочем, вначале его появление в институте ничем почти не отразилось на внутренних распорядках; слишком много из того, что не касалось непосредственно научной работы, было запущено. И, как позже формулировал в своей речи Черимов, общественная жизнь слабо индуктировалась могучими токами, которые струились за стенами лаборатории. Только через неделю, на первом производственном совещании, Черимов выступил со словом, которое еще ни разу не звучало в этой нарядной, заставленной шкафами зале. Вступительную речь держал Ханшин, не старый еще ученый, малоизвестность которого объяснялась пока не столько отсутствием таланта, сколько соседством яркой славы Скутаревского. Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать.
Вначале Черимов улыбался украдкой наивному пониманию событий и значительным, даже страстным интонациям Ханшина. Оратор прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычном для области, в которой он работал. Единственно чтобы скрыть ненарочную свою и вовсе не злостную улыбку, Черимов время от времени кивал утвердительно головой и записывал что-то в блокноте. Так он записал: заехать к дядьке Матвею… договориться с райсоветом о жилплощади… купить носки и нитки, – Черимов был холост. Как и Ханшин, Черимов сидел в президиуме собранья, чуть позади оратора, и фигура Ханшина была видна ему целиком. Нищета сквозила в нем даже со спины; поношенный пиджак был по-клоунски узок и короток ему; сухие, с круглыми ногтями, руки костисто торчали из рукавов, гладко выбритые щеки подпирались старомодным крахмальным воротничком, белой и жалкой ветошкой, изглоданной во многих жавельных стирках.
Речь Ханшина действительно далека была от тех образцов, на которых учился Черимов. Говорить он не умел, жесты не соответствовали смысловым кускам, – мысль его не шла синхронно с жестом; он кричал незначащее и шепотом пытался передавать громовость. Он начал с того, что вот века человечество жило, безумно, позорно растрачивая свои силы, не умея по справедливости удовлетворить потребности всех. Новую эру истории надо же когда-нибудь начинать, – честь и труд великого запева рабочий класс предлагает науке делить отныне совместно. Он упомянул, что мир еще не оправился от потрясений недавней войны; и хотя моральные раны заживают на человечестве быстрей, чем на собаке, – именно так определил он циничное забвение и не всегда мудрое ликование уцелевших, – раны на экономике еще гноятся, смертельно заражая обреченные социальные организмы. Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, все еще отвергается политической медициной Европы. Разность систем и политическая ситуация требуют от советского хозяйства величайшего напряжения, и оттого план реконструкции, рассчитанный в целом на энтузиазм коллектива, упирается в доблесть каждого по отдельности.
– …вчерашний день не хочет закатываться добровольно, – декларационно ударил он словом. – Мы поможем ему в этом, сделав науку неистощимым арсеналом для пролетариата… – Тугим, еще не смятым платком он вытер запотевший лоб и сконфуженно залистал бумаги перед собою.
Аудитория молчала, она ждала Черимова. И по тому, как оживленно, при его появлении, задвигались блики очков, зашуршала невидимая бумага, заволновались люди, минуту назад чопорные и неподвижные бонзы, стало понятно все. В его речи хотели услышать отголосок сокрушительных директив; его приход рассматривался как начало разгрома, дисквалификации института, падения Скутаревского, и кто-то уже острил, что самое здание отдают под столовую губотдела коммунальников.
Это была сложная смесь подозрительной настороженности, порою даже вражды и вместе с тем терпеливого внимания, с которым в иное время они приглядывались и к повадкам своих электронов. Доклад Черимова выслушан был в безупречной тишине.
– Класс никогда не кончает самоубийством, хотя умиранию своему способствует сам, – тезисно начал Черимов и, глядя в затылок Скутаревскому, почему-то подумал, что она сильно слиняла за эти десять лет, пламенная его рыжеватина. – Его гибель, естественно, вызывает судороги в смежных организмах, и в этом заключены причины сомнений, страха и зачастую прямой враждебности их жизнетворным силам революции. Истинно передовой ученый не может быть реакционером по самой конституции своей… – И, дерзко перечислив имена, он беглым взглядом окинул всех тех классиков естествознанья, которые – одетые в тяжелые дубовые рамы – выглядывали из книжных простенков.
Он запнулся; в этой аудитории митинговый прием не мог сойти за нужную политическую убедительность; не умея пока обойтись без бойкой, захватанной фразы, он машинально потер висок, и этот жест простого человеческого раздумья переломил настроенье аудитории, хотя бы временно, в его пользу. Программа речи была велика; необходимо было показать, как синтезировались в марксизме достижения естественных наук, подчеркнуть роль ученых в Советской стране и проиллюстрировать примерами, как всякий приходит к социализму через данные своей науки. Выгоднее было начать с параллелей между отношением правящего класса к науке в старое и новое время, и, хотя это выходило из пределов взятого им отрезка времени, он не удержался помянуть имена Галилея, Бэкона и Джордано.
Он не пренебрегал и мелочами, потому что и они убивают наповал. В его свидетельской шеренге стояли и Попов, которому морское ведомство расщедрилось на триста рублей для опытов; и Зинин, имевший несчастье в царской Казани впервые отыскать анилин; и Бессемер, умерший в нищете; и Фарадей, которому узколобый лорд отказывает в пенсии; и Менделеев, который по совместительству работал дегустатором вин у московского купца Елисеева. Следствия обозначили причину, он стал говорить об импотенции капиталистической системы, которая не в состоянии ни насытить до мудрости своих художников, ни реализовать рекорды своих наук. Это говорил простой рабочий, и тем суровее была его прокурорская речь, что прямолинейному разуму его недоступны были смягчающие обстоятельства…
Никогда еще не доводилось ему говорить так разбросанно, и никогда он не получал таких аплодисментов. Аудитория знала примечательную черимовскую биографию и теперь дружественно приветствовала человека, в такой мере потрудившегося над собой. Его вступление в институт Скутаревского могло считаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошел эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочел ее вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом, голосом очень спокойным, даже улыбчатым, Черимов предложил анониму назвать себя. Зал зашумел, задвигался, мнения резко разделились, и, хотя это и было то самое, чего втайне добивался Черимов, праздничность заседания была бесповоротно сорвана.
– Я предлагаю автору записки назваться хотя бы письменно, – повторил Черимов, и взгляд его остановился на симпатичном Иване Петровиче, с которым познакомился на хорах у Скутаревского.
Тот сокрушенно протирал очки и качал головой, осуждая возмутительную неприличность поступка в столь благородном сообществе. А тем временем звонил со злым и сконфуженным лицом:
– Я требую немедленно… назваться этому гражданину. – Видимо, было ему не до грамматики. – Оскорбительный вызов этого… – он пожевал воздух и попробовал вырвать записку из рук Черимова, но тот не отдавал, – …этого, с позволения сказать, пипифакса позорит всех нас…
Снова в зале поднялся шум, смешанный с раздражением и смехом: какой-то не в меру смешливый человек громко пошутил, что ворота института уже заперты и самый институт оцеплен войсками; некоторые поднялись уходить.
– Не могу, – глотая слюну, молвил Черимов. – Поесть охота, а… не могу!
– Торопитесь?
– Не, на мне штанов нет, – выпалил тот и даже зажмурился; даже лицо у него стало какое-то отвлеченное. – Они были, бог душу вынь, но… мы их третьего дня на сало сменяли. Полустанок Егорово, слышали? Фельдшеру… а полустанок Егорово.
– Потрясающе! – от души тешился Скутаревский. – Но ведь без штанов нельзя. Без штанов даже на войне неприлично. Черт, даже памятники в штанах. Так, значит, фельдшеру Егорову?… Слушайте, штаны я вам дам. Но, позвольте, значит, их и у Сеньки нету? Эй, Арсений… – закричал он, лицом к двери, – …убивец!
В кабинет, с руками, полными ножей и вилок, вбежала горничная в наколке; даже и на голодном режиме того года мадам соблюдала этикет.
– Они в ванне, – строго сообщила она.
Сергей Андреич посмотрел на грустное, давно не мытое лицо, все еще торчавшее перед ним, и комически развел руками:
– Вот видите, они уже в ванне! – И в первый раз, без особой выгоды для сына, сравнил их со стороны.
В профессорском доме, однако, Черимов прожил только неделю; от дальнейшего гостеприимства он благоразумно уклонился. Анна Евграфовна чересчур откровенно запирала от него ящики, и, кроме того, привкус чужого, хотя бы и сладкого хлеба никогда не приходился ему по нраву. Вторую неделю он прогостил у знакомого заделыцика со стекольной фабрички, где когда-то и сам тянул драты. В эти раздумчивые дни, шатаясь по улицам, он составлял план своего дальнейшего наступления. Мир был огромен, рыхловат и богат; он был подходящим материалом для неспокойных его рук. К дядьке вовсе не тянуло; голод привел его на ту же фабричку, и целых полгода, по старой памяти, он выдувал какие-то головоломные флаконы для всяких пахучих специй. Восхождение его началось с рабфака, вступительная наука показалась простой, она запоминалась легко, как номера партбилета и нагана. Потом стало труднее, учебе придавалась фронтовая значимость; самый мешок не успевал вместить ссыпаемого в него зерна. Черимова спасал только спорт. Ему дали стипендию и послали учиться выше. В течение шести последующих лет он не имел никакой личной жизни; вехами в его однообразных буднях служили лишь прочитанные книги. Он читал все подряд, и даже, если ветер нес по улице клочок печатной бумаги, его тянуло заглянуть в него. Ему удалось заслужить уважение профессоров, один оставил его у себя для продолжения научной работы. И когда однажды инженер Арсений получил из неизвестности брошюрку с безвестным именем Черимова, он и не подумал, что автор ее и есть Колька; он свалил это на неряшливость почты и даже не заглянул вовнутрь.
Черимов не оглядывался назад, и, только внезапно получив бумагу о назначении в институт, где когда-то ему предлагали место курьера, он оценил огромность пройденного пути. На минуту мальчишеской радостью захватило ему дух и захотелось скорее показать себя в новом, обструганном виде человеку, одобрение которого стало бы ему высшей похвалой. Государство еще не имело достаточного количества ученых, ему не из чего было выбирать, и сама по себе посылка на ответственную должность не могла считаться признанием высокой пригодности… На столе лежала толстая пластина зеркального стекла; все еще держа в руках путевку, он опустил глаза и там, среди недвижных отражений, увидел прежде всего жесткую, волевую складку у себя на переносье, почти шрам, который нанесла ему жизнь. Дальше, под стеклом, лежала бумажка с аккуратным расписанием дня; в три предстояло заседание; он опаздывал. Радость окончилась, он поднялся совсем иным человеком, и стало грустно, что никто в мире, кроме Арсения, не посмеет назвать его по-старому Колькой.
Черимовское назначение в заместители задержалось на целых полгода; вначале предполагалось командировать его просто для научной работы, когда же выяснилась необходимость приблизить деятельность научных учреждений к экономической практике дня, смысл посылки круто изменился. Петр Евграфович, ухитрявшийся своевременно узнавать обо всем, предупреждал Сергея Андреича через сестру о назначении комиссара и даже сопроводил это крайне нелестными характеристиками; Анна Евграфовна с перепугу что-то забыла, что-то придумала сама, и до Сергея Андреича дошла такая ахинея, что и смеяться не стоило.
Новое начальство пришло к институту пешком, в свежее январское утро, задолго до полудня; оно позвонило у ворот и спросило заместителя директора, но тот еще не приезжал. Черимов прождал час, погулял по коридорчикам, перечитал прошлогоднюю, но за чисто вымытым стеклом стенгазету, потом отправился бродить по институту, и, хотя все здесь было засекречено, никто его не остановил. Только у входа в высоковольтный зал стыкнулась с ним хлипкая, облезлого вида особь: «Вам к Скутаревскому?» – «Да, к нему», – машинально ответил тот и прошел мимо. Где-то в углу позади черных трансформаторных цилиндров мерно и оглушительно пощелкивала энергия; эхо обманывало, и казалось, что прямо над самой головой лопаются баллоны с озоном. Гулкое это помещение не имело ни одного окна; слепительный лампион покачивался посреди прохладного пространства, точно отдуваемый ветром от движущегося Скутаревского, и всюду – в темной глубине масляного бассейна, в отполированной меди разрядников, глазурованном кафеле стен – единовременно раскачивалось отражение звезды. Поднявшись по винтовой лестнице, Черимов увидел Скутаревского. В одном жилете, наклонясь над перилами, он грозил пальцем монтеру внизу; та же звезда раскачивалась у его ног в маслянистом глянце пола.
– …того, имейте в виду, что алкоголь проводник, понятно, Касимов? В следующий раз вон… – Он обернулся и увидел Черимова. – Э, кто? – Он потер лоб. – А, припоминаю… это вам я штиблеты дал.
– Вы мне штаны дали, Сергей Андреич, – поправил Черимов, здороваясь.
– …штаны? Да, в полоску. Хорошие штаны. Штиблеты – это тому, прыщавому. Не знаете, где он теперь?… Хм, не знаете. Ну, принесли назад?
– Нет, износил, – засмеялся Черимов. – Вот приехал представляться. Официально прихожу к вам заместителем, а по существу учеником…
– Я слышал, да. Значит, подучились? – он вскинул пристальные глаза. Он был в работе, и еще шел от него жгучий ветер из глаз, из самых его растопыренных пальцев. – Но ведь у меня есть заместитель по хозяйству, Селянов, слыхали?… Моложавый такой, в золотых очках…
– О нем было уже постановление, Сергей Андреич. Видите ли, он оказался бывшим прокурором судебной палаты. В свое время он обвинял группу товарищей, в которой был и…
– Прокурор? – И сипло, простуженно захохотал; машина внизу перестала хлестать слух своими разрядами, и теперь это был единственный во всем зале звук.
Скутаревский стоял боком к Черимову, но вдруг повернулся и брюзгливым, чуть прищуренным глазом смерил своего будущего помощника. Всякие, даже такие чудесные превращения человека он считал естественными: к людям он относился до жестокости строго. Несомненно, имелись у этого молодца в жалком мятом галстучке особые качества, оправдывавшие его назначение.
– Он был странный человек, Селянов. И хотя я люблю чудаков, но, черт, нельзя же в кабинете у себя пасьянсы раскладывать… все-таки тут не судебная палата. Так вы говорите, прокурор? – И опять захохотал. – Вот, охрип совсем, плохо топят, – рвал он как ни попадя слова и вдруг уперся холодным, сухим вопросом: – Формулу Пика помните?
– Нет… я работал последнее время по аппаратостроению.
– Так вот, Пик наврал, – заметив смущение Черимова, неохотно бурчал Скутаревский. – Коронирование идет лишь до полумиллиона вольт, а дальше все его рассуждения летят к черту. Чудно это вышло: ассистент наш от семейного огорчения уронил разрядник и испортил форму… Впрочем, вот, Иван Петрович, объясните сами товарищу. Знакомьтесь, это Геродов!
Здесь, на этой длинной галерейке, был не один; за пультом стоял пожилой человек, в синем комбинезоне, скромный и приятный взгляду. Он нехотя оторвался от вычислений, которые чертил карандашом на листке, сбоку мраморной доски; он был в очках, которые чудовищно увеличивали его глаза.
– …получилась метина, триста целковых убытку, карикатура в газетке, – знаете, как это у нас? – пояснил он. – Но результат стоит больших тысяч… потому что если изменить формулу токоведущих частей…
– Да, понимаю.
Черимов рассеянно кивал, разглядывая ораву чудовищ, хозяином которых становился.
Скутаревский снова свесился вниз:
– Ханшин, не уходите… сейчас начинаем. – Он мешковато помялся, припоминая институтские непорядки. – А с курьершами ладить можете? У нас их достаточно, но они учатся управлять государством… черт, я не против: когда они выучатся, я уже умру. – И с любопытством покосился на собеседника, как тот примет эту пробную шпильку, но тот промолчал, лишь опустив глаза. – Но пока мне нужны просто курьерши. Очень тяжелая жизнь, знаете, тяжелая. И потом отучите эту балду… вон, внизу, пить. Убьет током, а меня засудят за недосмотр… Иван Петрович, прошу…
Возрастая в силе, подобно сирене, поднялось гуденье снизу. Люди отступили по углам и, кажется, стали меньше ростом. Похоже было, будто мириады электрических существ заторопились выйти на скользкую полированную медь. Так продолжалось четверть минуты, пока электрические брызги не прорвали тишину.
– Триста восемьдесят тысяч, – сказал глуховатый голос у пульта.
– Шпарьте дальше.
Еще с минуту длилось ожиданье, напоенное низким трансформаторным гудом. Вдруг поток скачущих молний, свивающихся в слепящий столб, родился между полюсами. Обнаженная, сконцентрированная до физической плотности, мчалась к своему равновесию энергия, и треск ее походил, как если бы тысячи остервенелых людей рвали на клочья летящую, распластанную в урагане ткань. Злое, обжигающее глаз божество это остро пахло озоном. Лампион на мгновенье затмился. Иван Петрович разомкнул цепь и отошел от пульта. «Опять пятьсот восемьдесят», – жестяным голосом сообщил он в опустошенной тишине.
Скутаревский стал надевать пиджак:
– Так вот, оставайтесь, молодой человек. Помогите ему посрамлять иностранца.
Разумеется, это было также пробной штучкой старика и, возможно, экзаменом; по крайней мере, так понял Иван Петрович внезапное исчезновение директора. Во всяком случае, повествуя об истории открытия, он углублялся в такие дебри, точно и Черимова заодно с Пиком собирался устыдить в невежестве. Несколько позже, узнав поближе тогдашнего собеседника, Черимов понял, что это была просто страховка себя перед незнакомым коммунистом… Он действительно остался, – этим закончилась научная карьера прокурора и началась собственная черимовская биография; все предшествующее Черимов считал лишь подготовкой к ней… Впрочем, вначале его появление в институте ничем почти не отразилось на внутренних распорядках; слишком много из того, что не касалось непосредственно научной работы, было запущено. И, как позже формулировал в своей речи Черимов, общественная жизнь слабо индуктировалась могучими токами, которые струились за стенами лаборатории. Только через неделю, на первом производственном совещании, Черимов выступил со словом, которое еще ни разу не звучало в этой нарядной, заставленной шкафами зале. Вступительную речь держал Ханшин, не старый еще ученый, малоизвестность которого объяснялась пока не столько отсутствием таланта, сколько соседством яркой славы Скутаревского. Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать.
Вначале Черимов улыбался украдкой наивному пониманию событий и значительным, даже страстным интонациям Ханшина. Оратор прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычном для области, в которой он работал. Единственно чтобы скрыть ненарочную свою и вовсе не злостную улыбку, Черимов время от времени кивал утвердительно головой и записывал что-то в блокноте. Так он записал: заехать к дядьке Матвею… договориться с райсоветом о жилплощади… купить носки и нитки, – Черимов был холост. Как и Ханшин, Черимов сидел в президиуме собранья, чуть позади оратора, и фигура Ханшина была видна ему целиком. Нищета сквозила в нем даже со спины; поношенный пиджак был по-клоунски узок и короток ему; сухие, с круглыми ногтями, руки костисто торчали из рукавов, гладко выбритые щеки подпирались старомодным крахмальным воротничком, белой и жалкой ветошкой, изглоданной во многих жавельных стирках.
Речь Ханшина действительно далека была от тех образцов, на которых учился Черимов. Говорить он не умел, жесты не соответствовали смысловым кускам, – мысль его не шла синхронно с жестом; он кричал незначащее и шепотом пытался передавать громовость. Он начал с того, что вот века человечество жило, безумно, позорно растрачивая свои силы, не умея по справедливости удовлетворить потребности всех. Новую эру истории надо же когда-нибудь начинать, – честь и труд великого запева рабочий класс предлагает науке делить отныне совместно. Он упомянул, что мир еще не оправился от потрясений недавней войны; и хотя моральные раны заживают на человечестве быстрей, чем на собаке, – именно так определил он циничное забвение и не всегда мудрое ликование уцелевших, – раны на экономике еще гноятся, смертельно заражая обреченные социальные организмы. Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, все еще отвергается политической медициной Европы. Разность систем и политическая ситуация требуют от советского хозяйства величайшего напряжения, и оттого план реконструкции, рассчитанный в целом на энтузиазм коллектива, упирается в доблесть каждого по отдельности.
– …вчерашний день не хочет закатываться добровольно, – декларационно ударил он словом. – Мы поможем ему в этом, сделав науку неистощимым арсеналом для пролетариата… – Тугим, еще не смятым платком он вытер запотевший лоб и сконфуженно залистал бумаги перед собою.
Аудитория молчала, она ждала Черимова. И по тому, как оживленно, при его появлении, задвигались блики очков, зашуршала невидимая бумага, заволновались люди, минуту назад чопорные и неподвижные бонзы, стало понятно все. В его речи хотели услышать отголосок сокрушительных директив; его приход рассматривался как начало разгрома, дисквалификации института, падения Скутаревского, и кто-то уже острил, что самое здание отдают под столовую губотдела коммунальников.
Это была сложная смесь подозрительной настороженности, порою даже вражды и вместе с тем терпеливого внимания, с которым в иное время они приглядывались и к повадкам своих электронов. Доклад Черимова выслушан был в безупречной тишине.
– Класс никогда не кончает самоубийством, хотя умиранию своему способствует сам, – тезисно начал Черимов и, глядя в затылок Скутаревскому, почему-то подумал, что она сильно слиняла за эти десять лет, пламенная его рыжеватина. – Его гибель, естественно, вызывает судороги в смежных организмах, и в этом заключены причины сомнений, страха и зачастую прямой враждебности их жизнетворным силам революции. Истинно передовой ученый не может быть реакционером по самой конституции своей… – И, дерзко перечислив имена, он беглым взглядом окинул всех тех классиков естествознанья, которые – одетые в тяжелые дубовые рамы – выглядывали из книжных простенков.
Он запнулся; в этой аудитории митинговый прием не мог сойти за нужную политическую убедительность; не умея пока обойтись без бойкой, захватанной фразы, он машинально потер висок, и этот жест простого человеческого раздумья переломил настроенье аудитории, хотя бы временно, в его пользу. Программа речи была велика; необходимо было показать, как синтезировались в марксизме достижения естественных наук, подчеркнуть роль ученых в Советской стране и проиллюстрировать примерами, как всякий приходит к социализму через данные своей науки. Выгоднее было начать с параллелей между отношением правящего класса к науке в старое и новое время, и, хотя это выходило из пределов взятого им отрезка времени, он не удержался помянуть имена Галилея, Бэкона и Джордано.
Он не пренебрегал и мелочами, потому что и они убивают наповал. В его свидетельской шеренге стояли и Попов, которому морское ведомство расщедрилось на триста рублей для опытов; и Зинин, имевший несчастье в царской Казани впервые отыскать анилин; и Бессемер, умерший в нищете; и Фарадей, которому узколобый лорд отказывает в пенсии; и Менделеев, который по совместительству работал дегустатором вин у московского купца Елисеева. Следствия обозначили причину, он стал говорить об импотенции капиталистической системы, которая не в состоянии ни насытить до мудрости своих художников, ни реализовать рекорды своих наук. Это говорил простой рабочий, и тем суровее была его прокурорская речь, что прямолинейному разуму его недоступны были смягчающие обстоятельства…
Никогда еще не доводилось ему говорить так разбросанно, и никогда он не получал таких аплодисментов. Аудитория знала примечательную черимовскую биографию и теперь дружественно приветствовала человека, в такой мере потрудившегося над собой. Его вступление в институт Скутаревского могло считаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошел эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочел ее вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом, голосом очень спокойным, даже улыбчатым, Черимов предложил анониму назвать себя. Зал зашумел, задвигался, мнения резко разделились, и, хотя это и было то самое, чего втайне добивался Черимов, праздничность заседания была бесповоротно сорвана.
– Я предлагаю автору записки назваться хотя бы письменно, – повторил Черимов, и взгляд его остановился на симпатичном Иване Петровиче, с которым познакомился на хорах у Скутаревского.
Тот сокрушенно протирал очки и качал головой, осуждая возмутительную неприличность поступка в столь благородном сообществе. А тем временем звонил со злым и сконфуженным лицом:
– Я требую немедленно… назваться этому гражданину. – Видимо, было ему не до грамматики. – Оскорбительный вызов этого… – он пожевал воздух и попробовал вырвать записку из рук Черимова, но тот не отдавал, – …этого, с позволения сказать, пипифакса позорит всех нас…
Снова в зале поднялся шум, смешанный с раздражением и смехом: какой-то не в меру смешливый человек громко пошутил, что ворота института уже заперты и самый институт оцеплен войсками; некоторые поднялись уходить.