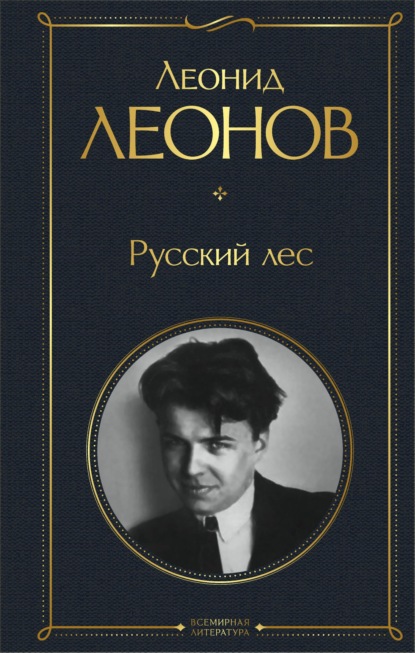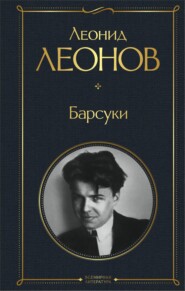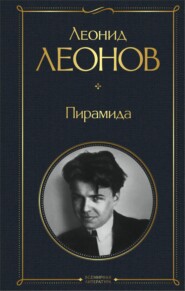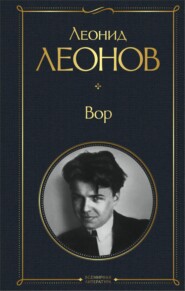По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский лес
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот тоже черемховые хороши, – лукавил Ананий.
– Черемховых-то не пропаришь, отец.
Радовался чему-то Ананий.
– Дельно, дельно, желанный. Ну, скажи мне теперь про завертки к саням.
– У нас на Енге их с конопелью вязали.
– И то, правда твоя: с куделью-то и мороза они не страшатся, – и всякий раз зачем-то прибавлял полюбившееся ему слово панорама.
Залетная гагара кричала в тишине, скрипели уключины карбаса за мысом, да стучала лесопилка купца Русанова на длинном островке впереди. И тут поведал собеседнику Ананий, что берега того островка, где морские суда становились на причал, образовались из опилок, реек и горбыля, скинутых в воду за ненадобностью.
– Чего дивуешься, весь и Архангельский-то город, корабельно-то пристанище, на древе стоит. И не счесть, сколь спущено во сине морюшко добра и силов, земных и небесных. – Под небесной силой разумел Ананий солнышко, безмерно обожаемое за Полярным кругом. – Да считай, сколь его, нашего золотца, по лесу да по дорогам раскидано… небрежно живем, желанный. Обижаем родную матушку: надкусим да и бросим материнско-то угощеньице. Мы не жалуемся, наше житие богатое: треска и пикша, да сполох в небе, да морошка-ягода… панорама! А эвон жарких-то стран жители не имеют ни избицы, ни тубареточки. В букварике у внука писано: на голой земле да в кожаных шалашах сидят, чего уж хуже И вот приходят молодые наши робятки в лес, валят богатырско дерево, отсекают зеленую главу, волокут его водой да чугункой… и всяк его лущит, пилит да строжет по пути, сорит единственное наше богачество… и тает моя лесина, что льдинка на полой воде, и достигает до жаркой-то страны в размере не свыше веретенышка. А уж кака веретенышку цена? А кабы не гонять лесок по мытарствам, сладить бы у нас на месте ту избицу с тубареточкой, – глянь, лишняя бы рубаха молодухам нашим. Да кабы останки-то огнем не палить, в море не гноить, а к дельцу чинно приладить – и лишняя бы денежка нам набежала. И на те бы медные прибыли привезти нашим деточкам на Ковду яблочко, хоть зелененькое… посколь не хуже прочих они, да и солдатушки из них ладные получаются. – Он поднял на зачарованного собеседника детски ясный взор. – А хватит копеечек, тут бы и старикам хоть по горстке сушеного изюмцу. А то еще, верно ли сказывают, виноградье-плод на свете имеется. Ой, сладок, говорят… не едал ли?
Было в облике Анания что-то привлекательное и неизгладимое, роднившее его с Калиной. Со временем к этим двум голосам присоединились и другие голоса родной земли, подслушанные Вихровым в последующих скитаньях… Позже, на знаменитых вихровских лекциях, это они говорили устами профессора, что любовь к родине, чем и пишется национальная история, немыслима без бережного обхождения с дарами природы, предоставленными в распоряжение не одного, а тысячи счастливых и разумных поколений. И пожалуй, скорее карелу с Ковды, чем самому Ивану Матвеичу, принадлежала крылатая концовка одной из них: «Наклонись, не пожалей спины, советский человек, и подыми этот ближний миллион, что давно уже под ногами у тебя валяется». К сожалению, этот немаловажный вопрос о повышении доходности в лесном промысле севера Вихров неосторожно подкрепил Ананьевой притчей о зеленом яблочке, расцененной Грацианским в одном частном разговоре как сентиментально-демагогическая и даже враждебная вылазка якобы против дружбы советских народов.
Разговор этот состоялся много лет спустя в деканском кабинете Лесохозяйственного института, за полчаса перед одним, весьма памятным обсуждением вихровской деятельности. В тот день многие видели их сидящими рядом в дружеской беседе, так как оба держались мнения, что научная борьба не должна отражаться на их личных отношениях, сложившихся еще в пору царских гонений.
– Плохо выглядишь, браток… смотри не рухни, – подбодрил Грацианский свою жертву словцом товарищеского участия. – Все буйствуешь… и прямо скажу, не понравилось мне это Ананьево яблочко: с червячком оно. Схлопочешь ты себе неприятности по первому разряду… А почему бы тебе не отдохнуть, не погулять под черным паром годок-другой, э… и даже третий? Мне при моих слабых легких гораздо виднее, каким бесценным благом является неповрежденное здоровье.
– Ну, при своих слабых легких, Александр Яковлевич, ты дожил почти до пятидесяти годов и еще не устал гадить на мой рабочий стол, – неожиданно грубо и желчно посмеялся Вихров, что объяснялось его естественным состоянием перед проработкой.
– Все шутишь, Иван, а зря. Сколько у тебя гемоглобину? Не знаешь, а в нашем возрасте пора знать. Береги себя хотя бы для нас, твоих поклонников, и э… сателлитов. Представь, о чем же я буду писать, если ты… ну, скажем, расхвораешься? – Прямой угрозой припахивал тот ножовый разговор. – А в конце-то концов, черт с ним, с лесом… здоровье дороже полена, даже самшитового!
– Дай мне вторую жизнь, я употреблю ее на доказательство тех же истин.
Тень застарелого раздражения набежала на лицо Грацианского:
– Но мы-то знаем с тобой, милый, что истины не бывает. Можно говорить лишь о страстном движении человека к ней, составляющем предмет истории. В данном случае лес надо рассматривать как повод, который помог тебе проявить свою личность, закалиться в лишениях, повидать страну… Кстати, говорят, ты недавно даже на Енисее побывал?.. когда это ты успел?
– Да, держу там под наблюдением рощу одну уже пятнадцать лет. В пору молодости я ведь постранствовал немало, пока не охромел.
– Вот и поделился бы впечатлениями! И вообще давно мы с тобой не сидели за бутылкой, с глазу на глаз… с тех пор, пожалуй, как нас заодно с Валерием замела охранка. Кстати, как это ты сумел тогда из ссылки выбраться? – и подозрительным взглядом, поверх очков, уставился Вихрову в переносье.
На самом же деле Грацианскому было отлично известно, что из ссылки Вихров выбыл по амнистии тринадцатого года и свыше года затем пребывал в непонятных скитаниях по стране. Действительно, вместо возвращения к прерванной учебе или жаркой общественной деятельности, как поступил сам Грацианский незадолго до первой мировой войны, Иван Матвеич предпринял тогда полугодовое путешествие по губерниям Европейской России – даже с заездом в Сибирь. Кстати, по расчетам Грацианского, заработанных на севере средств Вихрову могло хватить недель на семь, и оттого его, как ребенка, мучило любопытство: продолжались ли и после ссылки даяния неизвестного покровителя?..
И правда, она выглядела несколько загадочной, эта бродяжная прихоть, казалось бы, изголодавшегося в ссылке и внешне рассудительного человека, чего ради отвергнувшего все соблазны столичного бытия? Полупешком и впроголодь пускаться в тысячеверстную прогулку, чтоб вникнуть в незамысловатые повести исподней русской жизни, – слезать на полустанках поглуше и брести невесть куда до встречного шляха, дорожной ветки, малосудоходной речушки… и снова тащиться с паломниками в дальнюю обитель, трястись зайцем на товарной платформе, плыть матросом на камском буксире, пока не пожелается исчезнуть для других, столь же сомнительных предприятий, – под руководством одноглазого столетнего старчища изучить сидку дегтя где-то на Припяти или послушать, как осипшими от царевой водки, гусиными голосами тянут песнь про своего героя астраханские амбалы: Волга любит, чтоб на ней пели о Стеньке… И всю дорогу всматривался в ненаглядные морщинки материнского лица – с нежностью и оттенком той неизменной грусти, без которой не бывает ни большой любви, ни, пожалуй, душевного здоровья… И, сам мужик, дивился нераскрытому богатству ее пространства, выносливости ее мужчин, строгой осанке женщин и по прошлому старался угадать будущее своего племени, взращенного на черном хлебе и снятом молочке.
7
Сбывалась старая вихровская мечта – еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди. С сапогами за спиной, в просолоневшей под мышками рубахе шагал по проселкам и суходолам от света до свету, и, подобно отраженьям в зеркале, одни и те же картины представали ему. Как сквозь полуденные видения, проходил он через невеселые свадьбы или, напротив, оживленные поминки с гульбой наотмашь, – мимо ярмарок с бешеными каруселями и русских пожаров, оставлявших по себе речку слез да горсть золы, – сквозь престольные праздники, драчливые сходы и прочие сборища, где горланит, пляшет, слезами заливается народная душа. Видел нешумную, пугливую детвору, утопленниц в ромашках и растоптанных конокрадов, пучеглазых урядников-стрекачей, мчавшихся под хмельком на мертвое тело, слепцов с гугнивыми преданьями Святославовых времен, кандальников за мирское дело… похоже, вся тогдашняя Россия шла навстречу Вихрову в своей заплаканной красе. И опять на неделю поглощало его огромное, даже без кузнечиков, безмолвие полей. Серый пламень суховея шелушил ему лоб и клин тела в расстегнутом вороте рубахи; тут-то и прилечь бы под хвойными кущами сей знаменитой лесной державы, но, как ни менял направления, все не появлялось спасительного леска на мглистом горизонте.
Глаза уставали быстрее ног. Садился у прохладного болотца с чахлым лозняком, глядел в оконце смуглой воды, где однажды зародилась вся эта незадачливая жизнь и где, верно, и теперь чей-то отважный, незримый глазу праотец в полмикрона ростом переплывал страшный, полуторааршинный океан. Или, задыхаясь от зноя, валился на некошеной пойме, то следя за ястребом в синеве, то разглядывая насекомую мелюзгу в травяных дебрях. Мураши с подтянутыми животами сновали по своим тропинкам, шумели на диких скабиозах шмели, земляные осы тащили поживу к норкам… и студент Иван Вихров спрашивал у них, куда же подевались в этой зловещей тишине истинные хозяева России?
Мерный скрип колес подымал его с лужка. Обоз подвод в пятнадцать двигался мимо; сбоку плелись подобия людей, иные с буренками в поводу, иные налегке, с кнутьями. Уравненные бедой, молодые и старые, они все казались одного гнезда и возраста. То были переселенцы в сытные, приманчивые издали края. Как и положено призракам, шли не подымая пыли, без жалобы и не спеша, в избытке владея несчетным континентальным временем… Шествие начинала и замыкала такая же древняя, из тьмы веков бредущая телега. Вровень с коньком плелся рослый мужик с черными обводьями вкруг глаз и, в голову за ним, небом ему дарованная жена, чтоб было с кем родить сынов, сохой царапать землю, проклинать белый свет; полдень им был темнее ночи. В кузове поверх рухлядишки качался пожелтелый от жизни дед со спящим внучком на коленях… Отвесное солнце палило прямо в горлышко малютке. И оттого ли, что призраки не примечают живых, никто не обертывался на стоявшего при обочине Вихрова, даже дети.
Его самого втягивало в поток, и вот шагал рядом, и тут выяснялось, что все они погорельцы, идут из-под Кадома на привольные алтайские пристанища, что в дороге уж закопали маманю, слава богу отмучилась от своей жизни, что теперь уж недалеко, абы перевалить уральские хребты, а там, коли смилуется господь, рукой подать. «И как пройдете Крестовое село, – наизусть, заострившимися зрачками глядя вперед, читала женщина, – то встренется вам дивная долина вся в цветах, но вы туда не ехайте, а забирайте все влево, на Китай. Тут будут вам и некошеные луга, и нерубленые боры, и полноводные речки с превеликим множеством рыбы и утвы в затонах, а уж клевера-то… – отписывал в том же письме земляк, – осподи, не знаешь, отколь и починать, такие клевера!»
– Смотри, дедка, доедешь ли в такую даль?
– Вот тащуся, – оживлялся тот, соскучась по человечьей речи, – я еще деловой! Ясно, уж хомутишка мне не связать, дровен тоже не обогну, куды. Зато, вишь, колодезник я… и сколь я их, ангел ты мой покровитель, этих самых колодезей в жизни моей ископал, произнести немысленно. У меня, вишь, на воду-то ключик есть. Веди меня под руки в самую что ни есть дикую пустыню, в ледяные края, и я тебе без протайки в снегу указание дам, где заступом вдарить… и выскочить не успеешь, зальешься. Помещик Зверопонтов – не слыхал ли? – на тройке за мной приезжал, веришь ли, в ночное время: «Добудь мне, дедушка Ефрем, той чистородной водицы!» А я знаю зверопонтовску-т усадьбу, камень-бурляк один… из него токмо в бане каменку складать…
– Небось сковородки с ночи расставляешь, по росе признаешь? – догадывался Вихров.
– Зачем, у меня позаветней средствие имеется.
– Уж помолчал бы… истинно как есть безунывное брехло, – в сердцах осаживал его хозяин подводы.
– Все ругается… а мне хорошо, я глухой, не слышу, – подмигивал через минутку дед. – С того и серчаег, изволите ли видеть, что ключика ему своего не раскрываю… а куды мне тогда одинокому без ключика-то? Ить не сын, не зять, а везет. Хы, да он и тонуть станет, со мной не расстанется. Вези-вези, не замахивайся, а то помру! – И грозился кривым землистым перстом.
Потом виденье расплывалось пыльным облачком, и Вихров оставался на дороге один со своими мыслями. Вскоре показывалась за косогором желанная, самые вершинки пока, зелень, – Вихров поспевал в последнюю минуту. Чудом уцелевшую, уже общипанную кругом, при овражке, березовую рощицу сводили на дрова, чтобы по первой пороше вывезти сухое звонкое полено Лесорубы как раз полдничали и не то чтобы жевали нечто всухомятку, а обыкновенно сидели в отдохновении на бревнах, наслаждаясь мыслями о сытной пище и щемяшей прохладкой вянущей листвы. Лишь один непоседа с припадающим дергающимся веком, подвязана тряпицей скула, продолжал работу, несмотря на зной, и было примечательно, с каким жарким вдохновением истреблял он свое последнее в том уезде лесное достояние. Среди взрослых берез попадались вовсе молоденькие, гожие лишь на метлу; он валил их с удару, деловито, ровно шеи гусятам, пригибая стволики в золотистой шелухе. Надо думать, чем-то иным представлялась ему в запале эта безвинная молодь… Кстати, рубили высоко, то ли по лености, то ли в расчете на поросль, то ли с намерением воротиться в стужу за пеньком.
– Как покойницу-то звали? – для почину спрашивал Вихров, присаживаясь на поленницу.
– Чево-с? – недружелюбно откликался на полувзмахе тот, труженик, но, видно, имелось нечто в босом, заросшем, оборвавшемся студенте, подтверждавшее его право на столь дерзкие интонации. – А, ты про лесишку тоись? Медунихой звалась, заветная.
Названье указывало на присутствие липы в прежние годы, но, как ни вглядывался Вихров, ни одной не чернело в пестром от солнца перелеске. Тут и прочие подходили справиться об имени-званье прохожего, и чем смешней сгоряча, графом или барином, назывался Вихров, тем скорей происходило сближение. Беседа начиналась с шутки, дескать, покурим барского-то, а Вихров отдавал на расправу давно опустелый кисет, и тогда они сами безобидно делились с ним табачком.
– Черемховых-то не пропаришь, отец.
Радовался чему-то Ананий.
– Дельно, дельно, желанный. Ну, скажи мне теперь про завертки к саням.
– У нас на Енге их с конопелью вязали.
– И то, правда твоя: с куделью-то и мороза они не страшатся, – и всякий раз зачем-то прибавлял полюбившееся ему слово панорама.
Залетная гагара кричала в тишине, скрипели уключины карбаса за мысом, да стучала лесопилка купца Русанова на длинном островке впереди. И тут поведал собеседнику Ананий, что берега того островка, где морские суда становились на причал, образовались из опилок, реек и горбыля, скинутых в воду за ненадобностью.
– Чего дивуешься, весь и Архангельский-то город, корабельно-то пристанище, на древе стоит. И не счесть, сколь спущено во сине морюшко добра и силов, земных и небесных. – Под небесной силой разумел Ананий солнышко, безмерно обожаемое за Полярным кругом. – Да считай, сколь его, нашего золотца, по лесу да по дорогам раскидано… небрежно живем, желанный. Обижаем родную матушку: надкусим да и бросим материнско-то угощеньице. Мы не жалуемся, наше житие богатое: треска и пикша, да сполох в небе, да морошка-ягода… панорама! А эвон жарких-то стран жители не имеют ни избицы, ни тубареточки. В букварике у внука писано: на голой земле да в кожаных шалашах сидят, чего уж хуже И вот приходят молодые наши робятки в лес, валят богатырско дерево, отсекают зеленую главу, волокут его водой да чугункой… и всяк его лущит, пилит да строжет по пути, сорит единственное наше богачество… и тает моя лесина, что льдинка на полой воде, и достигает до жаркой-то страны в размере не свыше веретенышка. А уж кака веретенышку цена? А кабы не гонять лесок по мытарствам, сладить бы у нас на месте ту избицу с тубареточкой, – глянь, лишняя бы рубаха молодухам нашим. Да кабы останки-то огнем не палить, в море не гноить, а к дельцу чинно приладить – и лишняя бы денежка нам набежала. И на те бы медные прибыли привезти нашим деточкам на Ковду яблочко, хоть зелененькое… посколь не хуже прочих они, да и солдатушки из них ладные получаются. – Он поднял на зачарованного собеседника детски ясный взор. – А хватит копеечек, тут бы и старикам хоть по горстке сушеного изюмцу. А то еще, верно ли сказывают, виноградье-плод на свете имеется. Ой, сладок, говорят… не едал ли?
Было в облике Анания что-то привлекательное и неизгладимое, роднившее его с Калиной. Со временем к этим двум голосам присоединились и другие голоса родной земли, подслушанные Вихровым в последующих скитаньях… Позже, на знаменитых вихровских лекциях, это они говорили устами профессора, что любовь к родине, чем и пишется национальная история, немыслима без бережного обхождения с дарами природы, предоставленными в распоряжение не одного, а тысячи счастливых и разумных поколений. И пожалуй, скорее карелу с Ковды, чем самому Ивану Матвеичу, принадлежала крылатая концовка одной из них: «Наклонись, не пожалей спины, советский человек, и подыми этот ближний миллион, что давно уже под ногами у тебя валяется». К сожалению, этот немаловажный вопрос о повышении доходности в лесном промысле севера Вихров неосторожно подкрепил Ананьевой притчей о зеленом яблочке, расцененной Грацианским в одном частном разговоре как сентиментально-демагогическая и даже враждебная вылазка якобы против дружбы советских народов.
Разговор этот состоялся много лет спустя в деканском кабинете Лесохозяйственного института, за полчаса перед одним, весьма памятным обсуждением вихровской деятельности. В тот день многие видели их сидящими рядом в дружеской беседе, так как оба держались мнения, что научная борьба не должна отражаться на их личных отношениях, сложившихся еще в пору царских гонений.
– Плохо выглядишь, браток… смотри не рухни, – подбодрил Грацианский свою жертву словцом товарищеского участия. – Все буйствуешь… и прямо скажу, не понравилось мне это Ананьево яблочко: с червячком оно. Схлопочешь ты себе неприятности по первому разряду… А почему бы тебе не отдохнуть, не погулять под черным паром годок-другой, э… и даже третий? Мне при моих слабых легких гораздо виднее, каким бесценным благом является неповрежденное здоровье.
– Ну, при своих слабых легких, Александр Яковлевич, ты дожил почти до пятидесяти годов и еще не устал гадить на мой рабочий стол, – неожиданно грубо и желчно посмеялся Вихров, что объяснялось его естественным состоянием перед проработкой.
– Все шутишь, Иван, а зря. Сколько у тебя гемоглобину? Не знаешь, а в нашем возрасте пора знать. Береги себя хотя бы для нас, твоих поклонников, и э… сателлитов. Представь, о чем же я буду писать, если ты… ну, скажем, расхвораешься? – Прямой угрозой припахивал тот ножовый разговор. – А в конце-то концов, черт с ним, с лесом… здоровье дороже полена, даже самшитового!
– Дай мне вторую жизнь, я употреблю ее на доказательство тех же истин.
Тень застарелого раздражения набежала на лицо Грацианского:
– Но мы-то знаем с тобой, милый, что истины не бывает. Можно говорить лишь о страстном движении человека к ней, составляющем предмет истории. В данном случае лес надо рассматривать как повод, который помог тебе проявить свою личность, закалиться в лишениях, повидать страну… Кстати, говорят, ты недавно даже на Енисее побывал?.. когда это ты успел?
– Да, держу там под наблюдением рощу одну уже пятнадцать лет. В пору молодости я ведь постранствовал немало, пока не охромел.
– Вот и поделился бы впечатлениями! И вообще давно мы с тобой не сидели за бутылкой, с глазу на глаз… с тех пор, пожалуй, как нас заодно с Валерием замела охранка. Кстати, как это ты сумел тогда из ссылки выбраться? – и подозрительным взглядом, поверх очков, уставился Вихрову в переносье.
На самом же деле Грацианскому было отлично известно, что из ссылки Вихров выбыл по амнистии тринадцатого года и свыше года затем пребывал в непонятных скитаниях по стране. Действительно, вместо возвращения к прерванной учебе или жаркой общественной деятельности, как поступил сам Грацианский незадолго до первой мировой войны, Иван Матвеич предпринял тогда полугодовое путешествие по губерниям Европейской России – даже с заездом в Сибирь. Кстати, по расчетам Грацианского, заработанных на севере средств Вихрову могло хватить недель на семь, и оттого его, как ребенка, мучило любопытство: продолжались ли и после ссылки даяния неизвестного покровителя?..
И правда, она выглядела несколько загадочной, эта бродяжная прихоть, казалось бы, изголодавшегося в ссылке и внешне рассудительного человека, чего ради отвергнувшего все соблазны столичного бытия? Полупешком и впроголодь пускаться в тысячеверстную прогулку, чтоб вникнуть в незамысловатые повести исподней русской жизни, – слезать на полустанках поглуше и брести невесть куда до встречного шляха, дорожной ветки, малосудоходной речушки… и снова тащиться с паломниками в дальнюю обитель, трястись зайцем на товарной платформе, плыть матросом на камском буксире, пока не пожелается исчезнуть для других, столь же сомнительных предприятий, – под руководством одноглазого столетнего старчища изучить сидку дегтя где-то на Припяти или послушать, как осипшими от царевой водки, гусиными голосами тянут песнь про своего героя астраханские амбалы: Волга любит, чтоб на ней пели о Стеньке… И всю дорогу всматривался в ненаглядные морщинки материнского лица – с нежностью и оттенком той неизменной грусти, без которой не бывает ни большой любви, ни, пожалуй, душевного здоровья… И, сам мужик, дивился нераскрытому богатству ее пространства, выносливости ее мужчин, строгой осанке женщин и по прошлому старался угадать будущее своего племени, взращенного на черном хлебе и снятом молочке.
7
Сбывалась старая вихровская мечта – еще раз прикоснуться щекой к суховатой, вскормившей его груди. С сапогами за спиной, в просолоневшей под мышками рубахе шагал по проселкам и суходолам от света до свету, и, подобно отраженьям в зеркале, одни и те же картины представали ему. Как сквозь полуденные видения, проходил он через невеселые свадьбы или, напротив, оживленные поминки с гульбой наотмашь, – мимо ярмарок с бешеными каруселями и русских пожаров, оставлявших по себе речку слез да горсть золы, – сквозь престольные праздники, драчливые сходы и прочие сборища, где горланит, пляшет, слезами заливается народная душа. Видел нешумную, пугливую детвору, утопленниц в ромашках и растоптанных конокрадов, пучеглазых урядников-стрекачей, мчавшихся под хмельком на мертвое тело, слепцов с гугнивыми преданьями Святославовых времен, кандальников за мирское дело… похоже, вся тогдашняя Россия шла навстречу Вихрову в своей заплаканной красе. И опять на неделю поглощало его огромное, даже без кузнечиков, безмолвие полей. Серый пламень суховея шелушил ему лоб и клин тела в расстегнутом вороте рубахи; тут-то и прилечь бы под хвойными кущами сей знаменитой лесной державы, но, как ни менял направления, все не появлялось спасительного леска на мглистом горизонте.
Глаза уставали быстрее ног. Садился у прохладного болотца с чахлым лозняком, глядел в оконце смуглой воды, где однажды зародилась вся эта незадачливая жизнь и где, верно, и теперь чей-то отважный, незримый глазу праотец в полмикрона ростом переплывал страшный, полуторааршинный океан. Или, задыхаясь от зноя, валился на некошеной пойме, то следя за ястребом в синеве, то разглядывая насекомую мелюзгу в травяных дебрях. Мураши с подтянутыми животами сновали по своим тропинкам, шумели на диких скабиозах шмели, земляные осы тащили поживу к норкам… и студент Иван Вихров спрашивал у них, куда же подевались в этой зловещей тишине истинные хозяева России?
Мерный скрип колес подымал его с лужка. Обоз подвод в пятнадцать двигался мимо; сбоку плелись подобия людей, иные с буренками в поводу, иные налегке, с кнутьями. Уравненные бедой, молодые и старые, они все казались одного гнезда и возраста. То были переселенцы в сытные, приманчивые издали края. Как и положено призракам, шли не подымая пыли, без жалобы и не спеша, в избытке владея несчетным континентальным временем… Шествие начинала и замыкала такая же древняя, из тьмы веков бредущая телега. Вровень с коньком плелся рослый мужик с черными обводьями вкруг глаз и, в голову за ним, небом ему дарованная жена, чтоб было с кем родить сынов, сохой царапать землю, проклинать белый свет; полдень им был темнее ночи. В кузове поверх рухлядишки качался пожелтелый от жизни дед со спящим внучком на коленях… Отвесное солнце палило прямо в горлышко малютке. И оттого ли, что призраки не примечают живых, никто не обертывался на стоявшего при обочине Вихрова, даже дети.
Его самого втягивало в поток, и вот шагал рядом, и тут выяснялось, что все они погорельцы, идут из-под Кадома на привольные алтайские пристанища, что в дороге уж закопали маманю, слава богу отмучилась от своей жизни, что теперь уж недалеко, абы перевалить уральские хребты, а там, коли смилуется господь, рукой подать. «И как пройдете Крестовое село, – наизусть, заострившимися зрачками глядя вперед, читала женщина, – то встренется вам дивная долина вся в цветах, но вы туда не ехайте, а забирайте все влево, на Китай. Тут будут вам и некошеные луга, и нерубленые боры, и полноводные речки с превеликим множеством рыбы и утвы в затонах, а уж клевера-то… – отписывал в том же письме земляк, – осподи, не знаешь, отколь и починать, такие клевера!»
– Смотри, дедка, доедешь ли в такую даль?
– Вот тащуся, – оживлялся тот, соскучась по человечьей речи, – я еще деловой! Ясно, уж хомутишка мне не связать, дровен тоже не обогну, куды. Зато, вишь, колодезник я… и сколь я их, ангел ты мой покровитель, этих самых колодезей в жизни моей ископал, произнести немысленно. У меня, вишь, на воду-то ключик есть. Веди меня под руки в самую что ни есть дикую пустыню, в ледяные края, и я тебе без протайки в снегу указание дам, где заступом вдарить… и выскочить не успеешь, зальешься. Помещик Зверопонтов – не слыхал ли? – на тройке за мной приезжал, веришь ли, в ночное время: «Добудь мне, дедушка Ефрем, той чистородной водицы!» А я знаю зверопонтовску-т усадьбу, камень-бурляк один… из него токмо в бане каменку складать…
– Небось сковородки с ночи расставляешь, по росе признаешь? – догадывался Вихров.
– Зачем, у меня позаветней средствие имеется.
– Уж помолчал бы… истинно как есть безунывное брехло, – в сердцах осаживал его хозяин подводы.
– Все ругается… а мне хорошо, я глухой, не слышу, – подмигивал через минутку дед. – С того и серчаег, изволите ли видеть, что ключика ему своего не раскрываю… а куды мне тогда одинокому без ключика-то? Ить не сын, не зять, а везет. Хы, да он и тонуть станет, со мной не расстанется. Вези-вези, не замахивайся, а то помру! – И грозился кривым землистым перстом.
Потом виденье расплывалось пыльным облачком, и Вихров оставался на дороге один со своими мыслями. Вскоре показывалась за косогором желанная, самые вершинки пока, зелень, – Вихров поспевал в последнюю минуту. Чудом уцелевшую, уже общипанную кругом, при овражке, березовую рощицу сводили на дрова, чтобы по первой пороше вывезти сухое звонкое полено Лесорубы как раз полдничали и не то чтобы жевали нечто всухомятку, а обыкновенно сидели в отдохновении на бревнах, наслаждаясь мыслями о сытной пище и щемяшей прохладкой вянущей листвы. Лишь один непоседа с припадающим дергающимся веком, подвязана тряпицей скула, продолжал работу, несмотря на зной, и было примечательно, с каким жарким вдохновением истреблял он свое последнее в том уезде лесное достояние. Среди взрослых берез попадались вовсе молоденькие, гожие лишь на метлу; он валил их с удару, деловито, ровно шеи гусятам, пригибая стволики в золотистой шелухе. Надо думать, чем-то иным представлялась ему в запале эта безвинная молодь… Кстати, рубили высоко, то ли по лености, то ли в расчете на поросль, то ли с намерением воротиться в стужу за пеньком.
– Как покойницу-то звали? – для почину спрашивал Вихров, присаживаясь на поленницу.
– Чево-с? – недружелюбно откликался на полувзмахе тот, труженик, но, видно, имелось нечто в босом, заросшем, оборвавшемся студенте, подтверждавшее его право на столь дерзкие интонации. – А, ты про лесишку тоись? Медунихой звалась, заветная.
Названье указывало на присутствие липы в прежние годы, но, как ни вглядывался Вихров, ни одной не чернело в пестром от солнца перелеске. Тут и прочие подходили справиться об имени-званье прохожего, и чем смешней сгоряча, графом или барином, назывался Вихров, тем скорей происходило сближение. Беседа начиналась с шутки, дескать, покурим барского-то, а Вихров отдавал на расправу давно опустелый кисет, и тогда они сами безобидно делились с ним табачком.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: