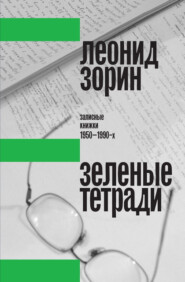По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Трезвенник
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он внимательно меня обозрел и спросил:
– Все балуешься с гантелями?
– Надо же пасти свои мышцы, – сказал я, почему-то вздохнув.
Впрочем, я без труда разобрался, чем вызвана моя элегичность. Я словно испытывал чувство вины – рядом со мною сидели люди, можно сказать, из другого мира. Они отягощены проблемами, а я – своей силовой зарядкой. Даже Випер, который хоть и подавлен утратой своей белокурой бестии, полон хлопот о народной судьбе. Я уж не говорю о Рене – достаточно встретиться с нею глазами, чтобы прочесть в их зеленых водах мерцание нездешних забот.
Но, ощущая эту ущербность, я посещал их не без приятности – они были теплые ребята. Несколько раз я виделся с Реной, два раза ходил с ней в консерваторию – слушали ораторию Генделя «Мессия», а также «Реквием» Моцарта. После этих возвышенных встреч с прекрасным она пребывала в самозабвении, неясно было, как к ней подступиться.
Меж тем, она вызывала во мне странное чувство, в нем совмещались и тяга к женщине, и опаска, и даже непонятная жалость. Порой возникало и раздражение. Несколько раз я порывался узнать у нее печальный сюжет несостоявшегося замужества, но что-то неизменно удерживало. К тому же я мог и сам догадаться – отвергнутый не сумел соответствовать. Однажды я проявил интерес к ее необычным научным пристрастиям. Она оживилась и битый час втолковывала мне суть дискуссии – единосущен или единоподобен Господь. Коснулась и спора о двуначалии – неразделимости божеского и человеческого.
Да, это было весьма возвышенно, но мне становилось все очевидней, сколь велика между нами бездна. Я был на одном ее краю с моими трезвостью и здравомыслием, она – на другом, где ее собеседниками были неслышные мне голоса. Надо было вовремя сделать несколько разумных шагов, подальше от края, чтобы не рухнуть. Именно так я и поступил.
Минуло лето, настала осень, а с нею – время специализации. Мне предстояло определиться, найти среди блюстителей права свое ли место, свою ли нишу – самый ответственный момент!
Всегда, когда нужно сделать выбор, утрачиваешь равновесие духа. Я даже не слишком врубился в известие, что соратники низложили Хрущева.
Однако последнее обстоятельство вызвало настоящую бурю в кругах гражданственно мыслящих личностей, вроде Веры Антоновны и отца. Родитель пребывал в ажитации, буквально не давал мне покоя. Глядя на то, как он метался, можно было и впрямь подумать, что он потерял своего благодетеля.
– Сам виноват, – говорил отец, – конечно, он сделал немало глупостей, но, главным образом, он дал маху, отрекшись от собственной опоры.
– Какая опора? – Я только вздыхал. – Когда и от кого он отрекся?
От этих слов мой отец взвивался, как будто бы я всадил в него шприц.
– Что значит «от кого»? – голосил он. – От ин-телли-генции, вот от кого! Только она его и поддерживала, а он к ней повернулся спиной.
Но что говорить о моем отце! Его дело – подхватывать чьи-то вскрики и подпевать чужим погудкам. Однако и Випер и Богушевич выглядели весьма озабоченными.
– Теперь невозможно будет дышать, – твердили они попеременно. – Не появится ни одной свежей строчки.
Я им сказал, что они мудилы. Нашли себе нового Марка Аврелия!
– Никто его не идеализирует, – сказал назидательно Богушевич, – но он символизировал оттепель.
Я восхитился:
– Дивная оттепель! Что там произошло в Будапеште? А все эти слухи про Новочеркасск? Сами рассказывали между прочим.
Оба смутились, но ненадолго. Чем лучше бьешь по чужим аргументам, тем их успешнее укрепляешь.
– Теперь неизбежен поворот, – озабоченно проговорил Випер. – Вылезут скрытые сталинисты.
Я сказал:
– Не больно они скрывались.
Я не добавил, что если и вылезут, я это тоже переживу. Сам-то я лезть никуда не намерен. Но промолчал. Им слово скажи, после будешь не рад, что начал. Правы всегда, правы во всем. Такая уж роль у них в нашем спектакле. Как это сказал Грибоедов? «Сок умной молодежи». Про них.
Год выдался нервный и суматошный. Я все усерднее погружался в пучину жилищного законодательства. С участием думал о бедных согражданах – не дай Бог мушке попасть в паутинку. Да что там мушка – черт ногу сломит! Добро бы только с нашим жильем связаны были все эти ребусы. Решительно всякий закон мне казался измученным путником – он бредет, на каждой ноге по несколько гирь! Кругом – дополнительные инструкции, которые не дают ему продыху. С каждым днем становилось все очевидней, что пространство, в котором мне выпало жить, в своей основе парадоксально. Регламентированная держава была по характеру анархична. Стоило какой-то скрижали доставить ей легкое неудобство, она тут же придумывала оговорку, которая разрешала ей и, наоборот, запрещала подданному совершить необходимое действие. Для будущего советского стряпчего тут возникали большие возможности – он мог себя чувствовать незаменимым.
Я даже несколько ограничил заметно разросшийся круг подружек. Всех настойчивей оказалась Арина с ее неземным поэтическим обликом. Хотя я ей дал от ворот поворот, она то и дело ко мне звонила. Когда дребезжал телефон, я вздрагивал. Потом раздавался воркующий голос:
– Ты нынче занят?
– Не продохнуть.
– Ой ли?
– Можешь не сомневаться.
– Я все-таки забегу ненадолго. Мне по пути. Не пожалеешь.
Это значило, что она принесет какую-то редкую машинопись. Видимо, она твердо решила поднять меня до своего уровня и политически образовать. Впрочем, я вполне допускаю, что просветительские заботы были этаким респектабельным гримом, прежде всего, для нее самой. Я слова не успевал сказать, как она уже стаскивала штанишки.
В горизонтальном положении она оставалась себе верна. Все те же песни – крики и жалобы.
– И снова ты своего добился! (Нет, какова? Беспримерная наглость!) Ты чувствуешь свою власть надо мной! Но знаешь, мне это даже нравится. (Какие-то мазохистские ноты.) О, боже мой, что же это такое? Нам надо видеться каждый день! (Мне только этого не хватало!) Даже мгновение невозвратимо! Ты знаешь ли, что когда звонит колокол, то это он звонит о тебе. (Спасибо. Подняла настроение.)
Одеваясь, она привычно вздыхала:
– Ну вот, я опять тебе уступила. Не слишком морально так тебя тешить, когда вокруг сгущаются тучи. Заморозки все ощутимей.
От злости я только скрипел зубами. Но вместе с тем хорошо понимал, что злиться я должен сам на себя. Все та же чертова слабина – по-прежнему стесняюсь отказывать, боюсь травмировать девичью психику.
В который раз я себе твердил, что с этой учтивостью нужно завязывать. Однажды я ей жестко сказал, что вижу, как права была мать, просившая меня обходить московских девушек стороной – они схарчат и не поперхнутся.
На этот раз она оскорбилась. Можно надеяться, что всерьез.
И все же причитанья Арины имели под собой основания. Прошло немногим более года со дня кремлевского новоселья, и свежая власть показала челюсти.
Однажды пришли Богушевич и Випер. Оба были взволнованы и торжественны. Один уважаемый профессор уволен, составилась делегация, которая его навестит и выразит свою солидарность.
Я их спросил:
– Кто же идет?
– Студенты. Порядочные люди.
– Вы знаете всех?
– Кого-то знаем, – Богушевич нетерпеливо поморщился. – Других узнаем. Что из того?
Випер добавил не без надменности:
– Мы не работаем в отделе кадров.
– Ах, вот что. А вам профессор знаком?