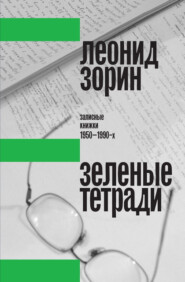По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Выкрест
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…В ту же секунду я ощутил, что некая железная сила, какая-то огненная клешня, рвет из плеча правую руку, падающую бессильно, как плеть. Глаза мои заливало потом, стекавшим со лба, скрипя зубами, левой рукой достал я нож. Старый складной перочинный нож. Разрезал ремни и побрел назад, придерживая мою страдалицу. Вот когда в полной мере понадобится Христово терпение на Голгофе. Всю эту дюжину лет я прожил, совсем не задумываясь о нем.
Всего через год я убедился, насколько я прав был в своем предчувствии – Святейший Синод, согласуясь с указом Его Императорского Величества, строжайше повелел консистории вернуть мне отцовскую фамилию. Мой Алексей выходил из себя: «Нет у хозяина русской земли иных забот, кроме этой, главнейшей: как раскрестить молодого парня!». Но дело, едва начавшись, застопорилось, а там и вовсе сошло на нет. Наше отечество захлестывали более важные заботы – вскорости стало не до меня.
Но я с той поры зарубил на носу: моя православная отчизна ничуть не грустит о заблудшей овечке, о том, как вывести поскорее бедную душу на истинный путь. И много позже, когда я слышал многоречивые рассуждения о благотворности ассимиляции, ее безусловной необходимости, я неприметно гасил улыбку. Никто не сделал больше меня, чтоб слиться с Францией воедино, но я и поныне не убежден, что Франция этого так хотела. А впрочем, что о том толковать – игра моя сыграна, путь мой пройден.
Горький теперь называл меня сыном, и делал это он с удовольствием. Я обращался к нему по имени – так захотел он, так повелось. «Где ты, сынок? – Я здесь, Алексей». И мне было нужно, чтоб лишний раз он убедился – я здесь, я рядом, приду к нему по первому зову.
Он оставался в Арзамасе вплоть до начала сентября, потом он вернулся в Нижний Новгород, а в декабре уже был в Москве. В ней пережил он свой звездный час, непостижимый успех премьеры. «Самый большой, – писал Немирович, – какой был когда-либо у драматурга». Что ж, кто – на дне, кто – на вершине. Невероятная биография раскручивалась с утроенной мощью. Казалось, из пушечного чрева вылетел в этот мир снаряд, готовый разнести его в клочья.
В эти полубезумные дни мы наконец воссоединились. И оба тогда пребывали в сходном ошеломительном состоянии. Его и меня маленько укачивало – как будто земля пустилась в пляс. Он сладко хмелел от объятий славы, я – от свидания с первопрестольной.
То была первая столица, с которой я вступил в поединок – еще не в одной мне предстояло не проиграть, не затеряться и доказать свою устойчивость. Забавное противостоянье! Я полюбил осажденную крепость. Так любят неприступную женщину.
Я познавал ее каждый час. Ее фасады. Ее закоулки. Ее расстоянья и тупики. Я постигал ее секреты. Темную, невнятную тайну ее непричесанного очарованья. Пеструю вязь ее дворов. Ее деревенские палисадники. Разноголосицу ее вывесок. Трамвайный звон. Перемену красок. Белое утро, сереющий день, сумеречные блики заката. Больше всего я любил вечера с их оживающими фонарями и обещаньем заветной встречи. Шалое, непутевое время! Желтые огоньки Москвы не обманули моих ожиданий.
А вот дела мои шли не бойко. Я должен был доказать отцу, что сам по себе чего-то стою, способен пробиться без покровителей. Но доказать не удавалось. На курсы в училище я не попал, письмо мое великому Ленскому, первейшей звезде императорской сцены, так и осталось безответным. Эта досадная неудача значила то, что я не вправе рассчитывать на отсрочку от армии. Кончилось тем, что я был принят в школу Художественного театра. И то, что для каждого стало бы счастьем, меня поначалу не слишком обрадовало. Я понимал, чему я обязан своей невероятной удачей – сын Горького, знаком Немировичу. Мое самолюбие страдало. Не так я мечтал приручить Москву.
Но постепенно я успокоился, уговорил себя, убедил: все еще у меня впереди, еще представится мне возможность проверить себя, испытать свои силы. Пока же старался увидеть грань, странную, невесомую грань, между почтенной актерской профессией и непонятной актерской волшбой. Я радостно выходил в толпе на эти прославленные подмостки, а в пьесе «На дне», родство с которой я не без гордости ощущал, участвовал в важной мизансцене – поддерживал гневную Василису, готовую эффектно упасть.
Так было в спектаклях, в обыденной жизни я не удерживал от падений барышень, имевших к ним склонность. «– Сынок, – остерегал Алексей, покачивая большой головой, покашливая и гладя усы, – не надорвись. Всех ягод не съешь».
Но было ему не до меня. В жизни самого Алексея возникла женщина – и какая! Мария Федоровна Андреева – одна из первых красавиц театра, нет, попросту первая, недосягаемая! Великокняжеская посадка прелестной головки. Гибкость тигрицы. Взгляд сверху вниз на все человечество. И прежде всего – на слабейшую часть его. Имею в виду обреченных мужчин.
Мой триумфатор был сокрушен, а кроме того, он втайне нуждался в столь ярком свидетельстве триумфа, хотя никогда бы в том не сознался.
Так появилась первая трещинка. Крохотная, едва заметная. Но отношения, что стекло – всякая трещинка разрушительна. А я был зелен, мне не хватало ни снисходительности, ни мудрости, ни даже простого великодушия. К тому же я успел привязаться к достойнейшей Екатерине Павловне, к Максиму – он и впрямь стал мне братом – и даже к недавно рожденной девочке.
Да я и сам предъявлял права – во мне клубилось ревнивое чувство. Я был готов делить Алексея с его семьей, но не с новой женщиной, не с этой беззаконной кометой. А он изменил, изменил нам всем. Его состояние было похоже на помешательство – он ослеп, он оглушен и не слишком терзается, ни в чем не винит себя. Непостижимо.
Да, нечто близкое к невменяемости. Позднее сравнительно легко он перенес и смерть дочурки. В ту пору я еще не понимал, как можно так помрачиться разумом – пусть даже из-за такой богини. Меж тем, не мне бы его клеймить. Он был таким же заложником страсти, каким был и я – но гораздо зависимей от этой жестокой белой горячки.
Я был уверен, что я ничем не обнаружил своих настроений, хотя, как правило, не таил своих пристрастий и антипатий, скрывать их казалось мне унизительным. Естественно, годы и обстоятельства, профессиональные обязанности, в конце концов, меня обуздали, но лет на это ушло немало.
Я очень старался следить за собою, однако те двое легко улавливали даже едва заметную фальшь. Прекрасная Дама достаточно быстро дала мне почувствовать, что не числит меня среди тех, кто стал ее другом. Я ощутил, что я – в немилости.
Нет, ничего не произошло. О, ничего, ничего, что хоть чем-то не отвечало бы этой выдержке, этой посадке головы, царственной поступи генеральши.
Впрочем, она и была генеральшей, женой преуспевшего сановника. Ей лишь в театре не удалось занять привычного положения – там властвовали другие дамы. Тем энергичней и азартней она вживалась в другую роль. Из пьесы «Да здравствует Революция!». Супруга генерала Желябужского, любовница миллионера Морозова, теперь она стала гражданской женой насмерть сраженного Буревестника и призывала простой народ обрушить неправый господский мир с его опостылевшей рафинированностью.
Она была не единственной жрицей у алтаря священной борьбы. Таких примечательных вольнолюбцев среди процветающих либералов хватало, как говорится, с избытком. Актер императорского театра красивый и удачливый Ходотов частенько появлялся в концертах и под аккорды аккомпаниатора требовал от восторженной публики стать зодчими лучезарного будущего. Его снисходительно называли «социалистом Его Величества», но провожали рукоплесканьями.
Похоже, подобная декламация то под гитару, то под рояль, а после под радостный рев толпы действует наркотически властно. Я и поныне в свободный час, листая память и воскрешая десятки артистов, присяжных поверенных, провинциальных златоустов и профессиональных трибунов, все еще не могу постичь причины этой неистребимой интеллигентской лихоманки, уничтожавшей двадцатый век. Она бушевала не только в России, исходно приговоренной к страданию, не только среди помраченных голов, воспламененных своей агрессией, но и в благополучной Европе с ее аристократическим скепсисом.
Беда тут не в одних дурачках из комнат с низкими потолками, из темных загаженных подворотен с их жаждой успеха, с идеей реванша, с рожденья поселившейся в лимфах. Я говорю о высоколобых, о тех, кто подчинял наши души и переворачивал мысли.
Откуда явилась им эта вера, что есть, что может быть справедливость, которой по силам умерить зависть? Что двигало ими? Больная совесть, о коей кричали на всех углах? Или их скорбное «чувство вины», такое избранническое, возвышенное, почти обязательное в списке достоинств нашего мыслящего тростника?
Но почему, почему это чистое, высокое парение духа чуждалось повседневной работы, негромких трудов, неприметных усилий? Зачем ему требовались ристалища, сияние люстр, овации толп и яростный свет прожекторов? Неужто и вправду наши наставники и самозваные вожаки не ощущали своей ущербности? Казалось бы, нескольких тысячелетий с их грозным чередованьем эпох, всегда одинаково трагических, либо беременных трагедией, вполне достаточно, чтобы понять: править грядущим не в наших возможностях. Обделены и силой и разумом. Мы не умеем прожить достойно свой краткий срок на этой земле. Не испоганив, не разорив места, назначенного для жизни. Но – поколение за поколением – пестуем мы свое простодушие, свои заблуждения, свою жертвенность, самонадеянное стремление думать за тех, кто придет нам вслед.
Мой президент, мой Гиз Лотарингский, мудрей и проницательней многих. Я благодарен ему за то, что, зная его десятки лет, я не сумел в нем разочароваться. Он обладает ясным умом. Поэтому он сказал однажды, что вовсе не нужно решать проблем, с проблемами попросту надо жить. Достойная восхищения трезвость. Но даже и он не устает произносить свои заклинанья о миссии Франции, о ее роли, о непременном ее величии. Grandeur, grandeur – сакральное слово!
Я понимал, что ночная кукушка перекукует, возобладает, будет всегда безраздельно правой. Два или три небрежных слова, две полужалобы-полувздоха в антракте между любовными судорогами – и я утрачу любовь человека, который и впрямь мне стал отцом. Я мучился, я не знал, что делать. Неужто такое может случиться? И я не услышу: «Где ты, сынок?». Не отзовусь с волнением, с нежностью: «Я здесь, Алексей». Нет, невозможно.
Но тут в мою воробьиную жизнь вмешалась чужая бездушная воля. Кому она принадлежала? Времени? Истории? Дьяволу? Или все будничней – кучке напыщенных остолопов, решившихся власть употребить? А власти у них было немерено. Забились в истерике барабаны, запели трубы, заговорила вослед им тяжелая артиллерия. Война, господа. Растопчем раскосых.
Я знал, что литая рука державы скоро возьмет меня за ворот. Как быть? Я колебался недолго. Холодно рассудил: не дамся. Причина была не в жалкой трусости. Промчался еще десяток лет, и я с удивлением сделал открытие: война – мое истинное призвание. Но в некое ужасное утро проснуться в отечественной казарме? Но – стать предметом? Подстилкой? Шваброй? Зависеть от взгляда любого унтера? И запретить самому себе чувствовать, думать, видеть и слышать? Нет, лучше сдохнуть. Нет, никогда.
Скажи мне, отец, куда податься? Направо – беда, налево – дыба. Прямо? Там тоже свой Змей Горыныч. Есть ли мне угол на белом свете? Есть ли мне место? Скажи, наставь.
Отец был немногословен и пасмурен. «Сынок, нет резона сложить свою голову за эту шайку. Бездарный выбор. Война эта – не твоя. Уезжай».
23 октября
…Почти километр без перевязки, держа на весу полумертвую руку. После короткого привала – еще четыре – и все пешком. Кровь из руки сперва хлестала, потом вытекала, как будто нехотя, как будто она со мной прощалась.
«А где-то там, на севере, в Париже…» Да, верно! В сырой и враждебный вечер в нахохлившемся беззащитном городе и впрямь дохнуло далеким Севером. Лишь Пушкин с его абиссинской кожей так чувствовал! Иначе бы с губ его вдруг не слетела такая строка.
Это Морис Шевалье внушал нам десятки лет надтреснутым голосом, что славный Париж – всегда Париж. Нет. Не всегда. Не в осенний сумрак, не в этот тоскливый, как старость, дождь. Париж обретает себя в тот миг, когда фиолетовое небо вновь повисает в минуты заката над отряхнувшими дрему улицами, суля возвращение весны. Что из того, что еще февраль? Она уже здесь, глотните ветра. Взгляните на женщин – удостоверьтесь!
А нынче, когда так просит тепла моя арамейская порода, душа отделяется от тела. Снова и снова листаешь память, чтобы реанимировать жизнь.
«Куда ж нам плыть?» Так спрашивал Пушкин. А я, в девятьсот четвертом, не спрашивал. Куда ж? А туда ж. Куда ж еще? Все той же Большой Эмигрантской Дорогой. Подальше от родины. В Новый Свет.
Смелее, дружок – вот она, жизнь, которую ты так жадно любишь, которую ты хочешь, как женщину. Познай ее, не страшись страдать. Не сомневайся, она твоя – какая ни есть, со всем ее трепетом, соблазном, вероломством, засадами. Штурмуй эту грешницу-недотрогу и подчини, покори, овладей. А если вдруг упадешь – вставай. Иначе – она сожрет с потрохами. Иначе – только тебя и видели. Смелее. И тверди, как молитву: не сгинуть. Не пропасть. Не сломаться. Что бы с тобой ни стряслось – не хнычь. Хуже Большой Покровки не будет.
Путь мой лежал через Швейцарию. Вот она, вольная Гельвеция. Милая спящая красавица. Вот она, умница-разумница, производящая и выдающая добротное европейское счастье в опрятной аптекарской упаковке. Но я понимал, какой ценой, каким бессонным трудом поколений оплачены этот уют и покой. О, нет, мы скроены по-другому – нам подавай все и сейчас.
Здесь жили Екатерина Павловна и дети – перед долгой разлукой мне захотелось на них взглянуть. После великолепной гранд-дамы, так артистически сочетавшей действа Художественного театра с театром революционных действий, было особенным наслаждением видеть лицо, любезное сердцу, естественное в любой своей черточке, слышать ее задушевный голос. Мне было грустно проститься с нею, с Максимом, со щебетуньей-малышкой. Бедную смешливую Катеньку видел тогда я в последний раз – кто знал, что срок ее будет так краток?
И скоро под моими ногами была уже не прочная твердь, не тихое лоно Вильгельма Телля, под ними свободно ходила палуба громадного мрачного корабля – огонь в его топке, казалось, подпитывался не столько равнодушным углем, сколько надеждами пассажиров. И я был такой же частицей исхода, одним из барашков этого стада. Здесь, ограниченные бортами и грозным безмолвием океана, все мы – и каждый из нас – утратили свою особость, свою отдельность, стали людьми одной судьбы. Куда-то везут и где-то высадят, если до этого не потонем.
Не знаю, кто чувствовал сходно со мною, да я и не стремился узнать. Я молча, непримиримо пестовал врожденную неприязнь к толпе, свою отчужденность и сепаратность.
Возможно, из глухого протеста, из неосознанной скрытой потребности отмежеваться от общей массы я выбрал Канаду, а не Америку. О да, тут был и выбор, и вызов. Я еду не в новый Вавилон, не на смотрины ловцов удачи, не на многоголосое торжище. Еду в пустынный морозный мир, похожий на мою снежную землю, в которой не нашел своей доли. А здесь я найду ее непременно. Это страна первопроходцев, страна мужчин – на этих просторах ты существуешь сам по себе.
Ну что же, ты хотел независимости? Ты получил ее полной мерой. С первого вечера в Торонто был предоставлен себе самому. Хотел доказать, что чего-то стоишь, что не намерен пропасть бесследно? Доказывай, и Бог тебе в помощь! Поныне не хочется воскрешать это жестокое пестрое время. Самое тяжкое одиночество – то, что томит тебя в муравейнике – его-то пришлось хлебнуть с избытком.
Была бессмысленная работа на крохотной меховой фабричонке. И еще более бессмысленная в одной подвернувшейся типографии. Стоило бросить Большую Покровку, чтобы опять дышать свинцом, парами кислот и медной пылью! Но дальше меня поджидала прачечная. И вновь мне представился отчий город и голоногие слобожанки с подолами, задранными до бедер, их круглые склоненные спины и мощные грушевидные груди, почти уходившие в мыльную воду, плескавшуюся в серых лоханях. Похоже, что я и сам очутился у старого треснувшего корыта!
Не диво ли, что ожившая память оказывается такою дыбой? Какое пыточное занятие – перебирать свои неудачи, свои изнурительные усилия пробиться сквозь чужую броню? Как убедить в своей достаточности, в своей способности и готовности преодолеть любые горы? Всмотритесь в меня, я тот, кто вам нужен. Я буду полезен – не сомневайтесь! Увидите сами – но дайте мне шанс!
Чем больше стараешься приглянуться, тем это менее удается. Столь же постыдно, сколь и бесплодно – люди, как правило, глухи и слепы.
Поистине – испытать унижение легче, чем о нем вспоминать. Удар бича – он, как ожог. Быстрая боль быстро проходит. Но если неспешно, миг за мигом, переживаешь былой позор, она становится невыносимой. Старый рубец набухает вновь неисцеленной густой обидой.
Естественно, я предпочел бродяжничество. Вместе с одним моим земляком, устав от безнадежных попыток найти подходящую работенку, мы дважды обошли материк.
В те дни мы вдоволь хлебнули Севера. Он навсегда продул наши легкие, и я за малым не задохнулся от этой арктической струи. Ни увлеченье морозостойкими авантюристами Джека Лондона, ни грозные образы русской зимы уже не помогали нам больше. Хотелось тепла, хотелось дома, почувствовать под ногами почву не как дорогу, а как пристанище.