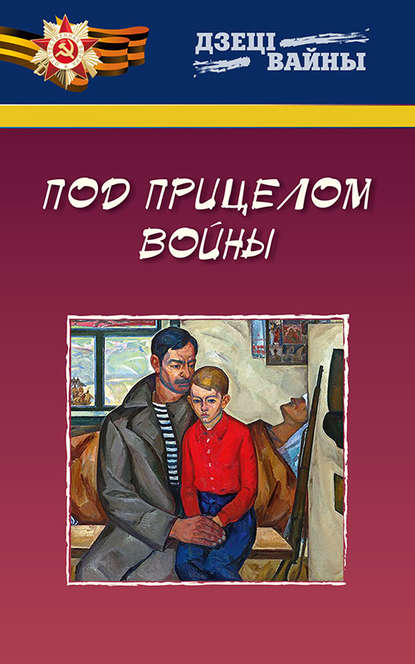По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Под прицелом войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но больше всего доставалось дедушке Титовичу, когда она рано утром, пытаясь в очередной раз выйти из нашего жилища, «в свободном падении» летела под откос по ледяным ступенькам, опережая барабанящие ведра и тазики. Аналогичная картина была и при подъеме по ступенькам в гору…
В весеннюю пору талые воды текли по земляному полу ручьем. Поздно вечером этот ручей затихал, и мы засыпали… Просыпались от звуков пробуждающегося ручейка. Свободное время мы проводили в летнем строении в саду.
Летом 1944 года к нам в деревню, по пути на место работы в Белоруссию, заехала мамина младшая сестра Анна Георгиевна Старовойтова, выпускница Московской зооветеринарной академии. Увидев наше бедственное положение, предложила жить вместе на Гомельщине.
И вот осенним днем того же года, погрузив наши скромные пожитки на повозку, запряженную нашей коровкой Зорькой, дедушка Титович отвез нас на станцию в Починок. Это событие, с одной стороны, тревожное – покидаем родные места со всеми последствиями, с другой – радостное, полное будущих надежд, осталось в моей памяти навсегда.
По опаленной войной земле мы ехали в неизвестность. Поезда ходили нечасто со свободным графиком, вагоны были переполнены, ведь мы направлялись в прифронтовую Беларусь со всеми вытекающими обстоятельствами. Самыми страшными для мамы и меня были пересадки в Брянске и Гомеле. Вокзалы там были разрушены, кругом руины и груды кирпича. В Гомеле вместо вокзала стояло несколько отдельных вагонов, в которых размещались все станционные службы. Пока мама пошла улаживать билетные проблемы, я остался сторожить вещи и сестричку.
И здесь чуть не произошла очередная трагедия.
На какое-то время я зазевался, а когда спохватился – моей проворной малышки уже нигде не было. Обезумев от страха, я помчался ее искать, спрашивая у редких прохожих, не видел ли ее кто-нибудь. Не знаю, сколько времени прошло, но вскоре я увидел маму, которая уже искала нас. Не спрашивая меня ни о чем, она все поняла и, в отчаянии пометавшись еще какое-то время по узким проходам среди кирпичей, изнемогая от горя, опустилась наземь. Я ничем не мог ее утешить, но понял, что происходит нечто очень страшное, и стал с еще большим усердием обшаривать окрестные завалы. И вот, наконец, вдалеке на вершине развалин увидел беленькую шапочку: это была наша Анечка, которая как ни в чем не бывало собирала там всякую всячину. Радости нашей не было конца.
После этого мы сели в вагон очередного поезда до Буда-Кошелево и поздно ночью 21 октября 1944 года добрались до места назначения. Там возле здания райисполкома нас ждала машина, на которой мы приехали в поселок Красный Курган, где при ветлечебнице и жила тетя Аня. Подъехав к дому, в свете фар мы увидели ожидающую нас радостную тетю. Погода была теплая и пасмурная, но как-то по-особому приветливая. Начинался новый период в моей детской жизни.
(Из книги Виктор Иванович Парфенов: к 80-летию со дня рождения / сост.: Г. Ф. Рыковский [и др.] – Мн., 2014. – С. 56–66.)
В памяти навечно
О начале войны услышал по радио. Из уличного репродуктора. На следующий день в поселке началась уже паника: что делать, куда деваться? В пятнадцати-двадцати километрах от райцентра, в лесной глуши находилось село Беличаны, родина мамы. Переехали туда, считая, что там будет поспокойнее. Но немцы добрались и сюда. Окружили село и сделали облаву на молодежь. Также поступили и в других деревнях. Потом подогнали машины и отвезли всех на железнодорожную станцию, чтобы отправить в Германию. В рабство.
Впоследствии стали наведываться к нам эпизодически. В дневное время. Ночами особенно не усердствовали. А гарнизон их стоял в Березино. Мы старались держаться от них подальше, особенно в период их наступления. Они ведь чуть что не так – стреляли не раздумывая.
Местность эта считалась партизанским краем. Командиром одного из отрядов был директор нашей школы. Осторожный человек. Вот фамилию уже не могу вспомнить, столько десятилетий прошло с тех пор. Оружие у них было либо самодельное, либо собранное на полях и отремонтированное.
Война войной, но надо было что-то и кушать. Кормильцы ушли на фронт, и о еде следовало заботиться самим. Поэтому садили картошку и сеяли зерновые по мере возможности.
С партизанами все эти годы существовали хорошие связи. Там ведь были свои люди. Половина деревенского населения ушла в их отряды. Об облавах они нас своевременно предупреждали, и мы успевали спрятаться в лес.
Отступая, фашисты жгли все подряд и взрывали. Местное население, не ожидая ничего хорошего, ринулось в лес. Он у нас был большой и болотистый. Сожгли бы, наверное, и нашу деревню, но партизаны блокировали эту территорию, и оккупанты укатили восвояси.
В армии из наших очень много погибло, а в районе разрушено оказалось все, что связано с жизнедеятельностью людей. Очень трудно было с продуктами. Не было даже соли. Узнали как-то, что на железнодорожной станции с войны остался запас ее прямо на обочине. Под открытым небом. Так ходили туда за двадцать километров и отбивали куски ломом. Соль от долгого лежания превратилась в сплошной полуметровый монолит. Зубами не угрызешь. Ходил вместе со всеми за нею и я. Самая необходимая к пище приправа была горькой на вкус и почему-то красного цвета. Может, от времени, а может, от каких-то примесей. Но другой не имелось, поэтому в ход шла и такая.
Когда пришли наши, всех, кого можно, забрали в армию. В деревне остались только дети и старики. Окрестности во многих местах были напичканы минами. Разминированием освобожденной территории занимались специальные отряды, в каждый из которых входили три-четыре опытных военнослужащих и несколько помощников. Объем работ предстоял огромный. Квалифицированных специалистов не хватало, и в Могилеве через военкомат была организована школа саперов. Несмотря на опасность такой профессии, шли туда с удовольствием. Записался и я и окончил ее. Некоторые из тех моих товарищей подорвались при обезвреживании мин и погибли.
Ну а потом настал черед школы обычной, а за ней и института. Я окончил лесотехнический в Минске. Распределили на Дальний Восток. Три года работал там аэрофототаксатором. Летал на самолетах и производил фотосъемку леса. Затем, если помните, был такой сталинский план наступления на засуху. Пришлось и мне поучаствовать в этих работах в Сталинградской области. Сажали полосы лесозащитные вдоль Волги и Днепра. В Минске долгое время работал заместителем, а потом и директором ботанического сада.
О войне можно было бы рассказать и больше, когда еще свежа была память о ней. Сейчас уже многое подзабылось. Помнится отрывками. Теми ужасами и бедами, которые остаются с тобой навсегда.
В лихие годы
Жил в Минске до 1939 года с отцом, матерью и двумя сестрами. Летом 1939 года переехали на жительство в город Смоленск. Почему – не знаю. Там и встретили войну. Видел, как бомбили город и массово гибли люди. Когда началась эвакуация, мы (я, мама и обе сестры) поехали на восток страны, на родину отца – в Саратовскую область (Тамалинский район, село Зубриловка). Ехали вместе с беженцами. Ночами. Эшелоны регулярно обстреливали, и мама защищала нас, детей, своим телом. Затем переехали в Казань на место новой дислокации отца. Он был военным в звании старший лейтенант. Из-за сердечной недостаточности его поначалу списали со службы, но, подлечив, снова отправили на фронт. А в 1944-м окончательно демобилизовали по состоянию здоровья.
В 44-м по мере освобождения советской территории от немецких оккупантов мы стали пробираться поближе к родине. Сначала на Полтавщине пожили в городе Лазирки (до 1945 года), а затем вернулись в Белоруссию.
Приехали в Минск – кругом одни развалины. Город на 90 % был разрушен. Первые два года после окончания войны жили в подвалах, в антисанитарных условиях. Было голодно, холодно. Продукты выдавались по карточкам. В общем, хватило горя – и нам, и всем остальным. Но выкарабкались, как видите, выучились и смогли даже кое-что сделать полезное для своей страны.
В нужде и страхе
Наша деревня расположена всего-то в двадцати километрах от Пинска, но по довоенным меркам это была настоящая полесская глушь. Кругом леса, радио отсутствовало, так что о войне мы, дети, просто не подозревали. Она ворвалась в нашу жизнь весьма неожиданно. Мне шел тогда седьмой год. Проснулся утром, вышел на улицу, смотрю: едет какая-то странная машина с подножками по бокам, на которых человеку можно было стоять. И с рупором наверху. Из рупора доносится громкий русский голос: «Граждане! Не бойтесь, выходите из домов. Пришла новая власть!»
Люди потихоньку начали открывать двери, настороженно выглядывая из-за них. Стрельбы никакой не было. Бои шли где-то вдалеке, и я даже не слышал их шума.
А вблизи селения практически в тот же день закипела работа. Дело в том, что рядом с деревней – примерно в пятидесяти метрах от одного ее конца и в двухстах от другого – проходила железная дорога Брест – Гомель, стратегически очень важная для переброски войск, техники, боеприпасов и прочего снаряжения. Ее надо было тщательно охранять. Под жилье оккупанты срочно приспособили кирпичное здание, в котором при советской власти размещались железнодорожные служащие. Обнесли его по периметру двойными высокими (около двух метров) бревенчатыми стенами, в промежутке между которыми насыпали песок. Мы называли это сооружение бункером. Рядом с ним поставили сторожевую вышку с пулеметами. Службу немцам помогали нести мадьяры.
Заборы поломали в первую же ночь. Деревню вокруг немедленно обложили кострами. Они пылали примерно через каждые сто метров. И все из-за того, что рядом полотно железной дороги. Боялись, видимо, нападения на нее из леса. Они же не знали, кто тут и что тут. Вскоре перестала существовать и сама деревня. Поступила команда о ее сносе. Дали для этого очень короткий (не помню уже точно, какой) срок. 700-метровая зона по обе стороны от железнодорожного пути должна была быть свободной от деревьев и построек.
Началась переездная суматоха. Дома срочно разбирали кто как мог и перемещали на новое место жительства – к опушке леса, километра на два от рельсов. С разбираемых хат сначала, естественно, снимали крыши. Забавы ради мы стали лазать по оголенным бревенчатым срубам, а однажды подвесили внутри кусок железа и попробовали звонить. Как это делает колхозный сторож или бригадир, сзывая народ на сбор. Над нашими головами тут же просвистели пули, выпущенные из пулемета. Не понравилась оккупантам такая музыка, похожая на набат.
Тревожным стало время. Ночью уходили спать в лесные землянки (был там неподалеку такой уютный березнячок), так как в хатах оставаться было страшно. Что там у завоевателей на уме! Вернемся, бывало, утром домой – повсюду на земляном полу следы немецких сапог. Приходили, значит, в наше отсутствие. Смотрели, контролировали. И такое случалось довольно часто, поэтому мы и жили большей частью в землянках. Даже днем иногда старались находиться в лесу.
Вскоре после прихода немцы объявили строгий приказ: всем железнодорожникам выйти на работу немедленно! Иначе расстрел. Отец мой до войны был обходчиком – сначала при поляках, а затем и при советской власти, которая была установлена в Западной Белоруссии в 1939-м году. Пришлось подчиниться. Так и трудился все четыре оккупационных года. Куда денешься!
Хорошо помню, как моих земляков вывозили в Германию на принудительные работы. Забирали силой. Плач стоял во всей округе. Отобранных собирали в одном месте. Потом приходили поезда и людей запихивали в грузовые вагоны с маленькими окошечками под самой крышей, до которых не дотянешься. Возили, как скот. Длинные получались эшелоны.
Поезда с невольниками проходили через нашу местность на запад в течение многих дней. Мужчины часто выпрыгивали из них на ходу и катились с откоса. Не в каждом вагоне была охрана. От двух до пяти человек спасались подобным образом от рабства каждый день.
Детей немцы поначалу даже кормили обедами из солдатской походной кухни, которая приезжала в деревню на машине. Каждому желающему выдавался котелок, и малышня от пяти до десяти лет, а то и меньше возрастом выстраивалась в очередь. Повар наливал в посудину гороховый суп с мясом. По тем голодным временам это было несказанно вкусно. В свою очередь с вышки (мы звали ее маяком) дежуривший там пулеметчик бросал иногда нам прямо на песок конфеты или папиросы россыпью. Мы их тут же расхватывали – курили тогда все без исключения. Немец хохотал.
Но однажды суп нам чем-то не понравился, и мы дружно вылили его под забор. С тех пор как отрезало – никаких обедов. Перестали кормить. А если встречали на улице, показывали в нашу сторону пальцем: это, мол, те, что вылили на землю суп. И что-то говорили на своем гортанном языке.
После того, как на немецкой территории начались взрывы (некоторые из пацанов, видимо, по просьбе партизан стали оставлять мины замедленного действия), нас туда вообще перестали пускать. К бункеру мы уже и близко не подходили.
Жить становилось все опаснее. Дважды многие из нас могли погибнуть. Однажды пошли по грибы. Стали переходить из леска в лесок через небольшую, метров сто в поперечнике поляну. Вдруг в небе появились самолеты и начали сверху бомбы кидать. Приняли, видно, нас за партизан. Мы в страхе попадали на землю. И вот что интересно: почему решили бомбить? Могли бы перестрелять из пулеметов, а применили бомбы, причем большого калибра. Одна из воронок была глубиной не менее пяти метров и окружностью, наверное, метров двадцать. Она существует и до сих пор.
В 1943–44 годах вместе с немцами стали нести службу и власовцы, любители женщин легкого поведения и самогонки. Однажды понапивались вдрызг и залезли спать в сарай с сеном, который стоял на четырех столбах-подпорках. И тут появилась другая их группа, которой выпивки уже не досталось. Это их разозлило. Подозвали к себе малышню и говорят: «Видите, наверху дяди спят? Берите камни и бросайте туда!» Мы по детской наивности и клюнули на явно провокационный призыв. Стали швырять каменьями в вооруженных людей. Те – с сеновала и за нами вдогонку. Пацаны и я вместе с ними успели заскочить в пустой дом и закрыть запоры. Попрятались в комнате под кровати. Слышим, пинком выбили одну дверь, потом другую. И стали по одному вытаскивать нас за ноги. Троих уже успели вывести на улицу. Следом вытащили бы остальных и могли бы, наверное, расстрелять. Но вдруг все прекратилось. Смотрим сквозь щели: немцы появились. Построили власовцев в шеренгу, и немец, проходя перед строем, бил каждого с размаху по мордасам слева направо и справа налево. Не потому, конечно, что нас стало жалко. Просто власовцы перешли грань дозволенного.
Велась с населением и «просветительная» работа. Был у нас в деревне длинный сарай, протяженностью, наверное, метров двадцать. Клуня по-нашему. С одной стороны в ней раньше хранили сено и разный корм. С другой – содержался скот (коровы, свиньи и пр.). Новые хозяева превратили его в клуб. Загоняли туда под вечер всех, кого увидят. Добровольно-принудительно, как говорят. Если и не хотел, все равно затаскивали. Внутри стояли скамейки и висел экран. Показывали немецкую хронику – как танки расстреливают и давят наших солдат. Смотрите, мол, какова наша военная мощь! Ничего ее не остановит. Сдаются русские деревни и города. А там и Москва не устоит.
А наутро в сопровождении старосты немцы заходили в избы и требовали: «Яйки, куры, масло…» Вроде как плату за просмотренное кино.
Главное же внимание оккупанты уделяли железной дороге. На вышке всегда сидел немец с пулеметом и наблюдал за окрестностью. Территория вдоль железнодорожного полотна ночью простреливалась и освещалась прожектором. Деревья и села в этой зоне были снесены. Голая местность! Расстреливали всех, кто попадал в эту зону. И тем не менее взрывы тут гремели всю войну. Приходили партизаны и в саму деревню.
Рабочие трудились на железной дороге каждый день, растаскивая взорванные вагоны и заделывая прорехи в шпалах и рельсах. У них был установлен контакт с партизанами. Днем они добросовестно ремонтировали железнодорожные пути, а уезжая – сами же минировали их. А поскольку бригады бросали на разные участки, то и взрывы происходили в разных местах. Уже тогда, когда там никого не было. Мины-то были с часовыми механизмами.
И все-таки фрицы догадались, кто им вредит. Вычислили каким-то образом! Подозрение пало на бригаду, в которой трудились и многие наши селяне. Виновных заставили самих вырыть яму, у которой всех и расстреляли. Из нашей деревни тогда погибло человек десять. О других точно не знаю. На некоторых нашли немецкую одежду, взятую, очевидно, из вагонов с обмундированием. Сколько их лежало, покареженных, вдоль полотна, лишь чуточку оттянутых с откосов! Везли в железнодорожных составах самое разное – от военного снаряжения до продуктов и одежды. Все шло на фронт. Поубирали этот железный хлам только после окончания войны.
Для лучшего снабжения своей армии немцы построили второй путь. Отходя в 1944-м, резали шпалы (по пути шла специальная приспособленная для этих целей машина) и взрывали рельсы, подкладывая под них взрывчатку. Осколки и даже большие куски рельсов летели на два километра. Мы в это время пасли у деревни скот и видели, как шлепались вблизи увесистые железяки.
Боев здесь не было и при отступлении немцев. В промежутке между железной дорогой и шоссейной, которая проходила от нас в трех километрах, они поставили танки. Но потом быстро их убрали. Может, почувствовали окружение.
С колоннами отступающих отходили и итальянцы. Они прятались по хуторам и в лесу. Не хотели идти вместе с немцами.
А вот мадьяры простояли у нас всю войну. Немцы их бросали на облаву, против партизан. Перед этим приходил бронепоезд, останавливался и около часа молотил по лесу из пушек и пулеметов. Потом туда вступали мадьяры. Человек пятьдесят их было. Случалось, что назад многие возвращались уже без оружия. Возможно, его отбирали партизаны.
Старосту и тех, кто ему помогал, после войны отправили на двадцать лет в тюрьму, хотя он не очень старался в работе. Более того, отстоял деревню, которую немцы несколько раз пытались сжечь.
После освобождения на полях осталось много брошенного оружия. Ящик с динамитом мы, бывало, закладывали под сосну и подрывали с помощью бикфордова шнура. Убегали подальше и ждали, когда ухнет. Патронов и гранат тоже было навалом. И чудо, что от них никто не пострадал.